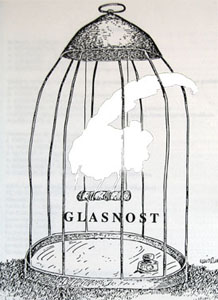
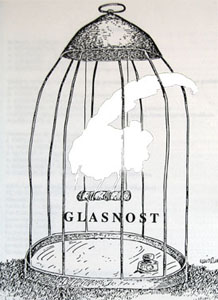
Но вдруг, умывшись на заре,
Водою ключевою…
Мы еще не в состоянии понять истинное значение творчества и судьбы Варлама Тихоновича Шаламова, как неспособны осознать смысл и последствия трагического периода русской истории, внутри которого находимся.
Шаламов неотделим от России, как Волга, как Уральский хребет, для него не было выбора: уезжать или оставаться — ему, как Божье испытание Иову, дана была судьба всей России, и он повторил ее в своей — человеческой судьбе. Вместе с тем — Шаламов всемирен, всечеловечен, ибо его свидетельство не умещается в рамки национальной литературы или истории, свидетельство, в существовании которого мы уже четверть века боимся себе признаться, ставит вопрос о возможности дальнейшего существования всего человечества, о праве человечества на существование.
Солженицын не верит в способность европейской цивилизации выжить, Шаламов не видит оправдания человеческой природе.
«Мертвый дом» Достоевского — не более, чем детский сад в сравнении со столь близким нам домом, вызвал у Шаламова и отношение к надежде Достоевского («красотой спасется мир») — как к детскому лепету. В своем «Желании I» Шаламов ответил:
Я хотел бы так немного!
Я хотел бы быть обрубком,
Человеческим обрубком.
Отмороженные руки,
Отмороженные ноги…
Жить бы стало очень смело
Укороченное тело.
Я б собрал слюну во рту,
Я бы плюнул в красоту —
В омерзительную рожу,
На ее подобие Божье
Не молился б человек,
Помнящий лицо калек…
В молодости — университетской, позднелефовской — он еще успел вдохнуть воздух творимого искусства — в разломах и свободе не знающего своего пути XX века. Не по возрасту рано и очень определенно — с так называемой троцкистской молодежью — Шаламов узнал, что ни ему, ни России дышать этим воздухом не суждено.
Мы вышли в наш тягостный путь
В покорном угрюмом молчаньи…
Не все уроки в то время были еще смертными, для Шаламова они стали — спасительны. Через несколько лет:
Не боясь я иду в темноту, —
уже с миллионами других вернувшись на каторгу, он — благодаря этим урокам — не погиб в первую же зиму, как Мандельштам, как Святополк-Мирский. Впрочем, кто знает, сколько сотен раз Шаламов счел милосердным и счастливым быстрое, по его понятиям, убийство Мандельштама. Впереди у Шаламова было еще двадцать лет гибели. «Среди беспамятного льда» он увидел и испытал то, что не довелось пережить ни одному на земле поэту. Он не покончил с собой, не бросился под автоматы в запретку, не устал думать «о всемогуществе могил», чтобы свидетельствовать о том, что не должен ни пережить, ни увидеть ни один человек в природе:
Потухнут свечи восковые
В еще не сломанных церквах,
Когда я в них войду впервые
Со смертной пеной на губах…
Там, где вся Россия в сотнях каторжных песен творила величайший многоголосый реквием самой себе, небывалую в мировой истории сагу своих страданий и гибели, там Варлам Шаламов в своей угловатой, судорожно рыдающей прозе нашел новый жанр повествования (нет завязок и кульминаций среди тысячеликой смерти), чтобы сохранить лики и души погибших, их место казни и последние шаги, а в стихах вел нескончаемый спор с Богом о смысле и праве такого мира на земле.
Тот мамонт выл, дрожа всем телом,
В ловушке для богатырей,
Под визг и свист осатанелый
Полулюдей, полузверей.
И побиваемый камнями
И не мудрец и не пророк,
А просто мамонт в смертной яме,
Трубящий в свой Роландов рог.
Он звал природу на подмогу,
И сохло русло у реки,
И через горные отроги
Перемещались родники.
Стихи Шаламова уже жили: синяя его тетрадь, тайно вывезенная с Колымы врачом, уже была передана Пастернаку и стала предметом его гордости за русскую поэзию, а Шаламов все еще шел, как первопроходец через свою судьбу — с упорством и без надежды.
«У жизни на краю» не было уже ни сил, ни гордости, но оставался последний отблеск человеческого достоинства и высокого предназначения.
Может быть тому порукой
Был огарок восковой,
Осветивший столько муки,
Столько боли вековой, —
написал Шаламов не столько о Пастернаке, сколько о себе.
Но и второй «урок» кончился для Шаламова. Со всей Россией ему померещилось, что жить опять, кажется, можно. Оказалось, что можно пока не умирать.
Прозы — огненного свидетельства, сравнимого по трагическому пафосу лишь с «Житием» протопопа Аввакума —
…Тетрадь тряслась от плача
В любых натруженных руках,—
печатать не хотел никто («какие-то очерки…» — считалось в либерально-литературных кругах), стихи печатались в отрывках, с разрушенными циклами, чтобы раздробить, придушить, заглушить насколько возможно, рвавшийся из них к Богу и людям предсмертный хрип русской души и русской культуры. И даже в еще шедший в эти годы
Наш спор о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Вязать и решать…
его — главного свидетеля — пускать не хотели и боялись. В литературных кухнях-салонах к Шаламову относились с заметной и насмешливой снисходительностью (а потом и злорадством: «мы еще тогда это говорили»), а он жаждал какого-то действия, или, вернее, действенной жизни литератора-профессионала: переводил, писал об уголовном мире, создавал наставления для начинающих поэтов, разбирал раннее творчество Репина, — и все это никому не было нужно. Кое-что, правда, издавалось, но проходило, как правило, незамеченным. Известность Шаламова была такова, что когда году в 70-м появилась наконец первая книжка его прозы (разумеется, по-немецки, а не по-русски), и фамилия и имя автора были перевраны.
Но песня петь не перестала
Про чью-то боль, про чью-то честь,
У ней и мужества достало
Мученье славе предпочесть.
Не только стихи и прозу его понимать было — страшно, но и с ним самим было — трудно. Шаламов всегда оставался строг, не прощал даже близким: одному — вынужденных компромиссов, другому — смеси крови с розовой водицей, третьему — заемного словаря. Но каким же беспощадным судом судил он в одиночестве (никого рядом не было) самого себя, если смог написать:
Всего я касался лишь краем
И стал чересчур обтекаем.
Это о себе, почти голодающем, но полтора десятилетия не вступавшем в Союз писателей; о себе, не написавшем ни строки не только «датской» (к датам), но и просто проходной; о себе — отказавшемся от помощи полуприличного литературного бонзы, приславшего к Шаламову (по генетически-непроизвольному хамству) за прозой и стихами своего секретаря. И если он, изнемогая в одиночестве, и делал хоть что-то, чтобы уцелеть, то лишь потому, что видел себя все еще полным сосудом не переданного людям бесценного опыта.
Внезапная, но весьма закономерная смерть Шаламова (вскоре после опубликования его последних стихов в «Вестнике студенческого русского Христианского движения») — это не только огромная, поистине невосполнимая потеря для нас, для русской и мировой культуры, для нравственного бытия всего человечества. В ней чудится и зловещее пророчество.
Жизнь Шаламова, как мы говорили, повторяла судьбу всей России. В последние месяцы ему уже было уготовано место в психушке, куда его перевели, по нашему обыкновению, тайно и, очевидно, против его воли, — его, поэта, создавшего незадолго до этого цикл замечательных стихов.
Шаламов не уставал предупреждать:
Она еще жива, Расея,
Опаснейшая из Горгон.
Заржавленным щитом Персея
Не этот облик отражён…
Но дом Горгон находит Муза
И — безоружная — войдет,
И поглядит в глаза Медузе,
Окаменеет — и умрёт.
Иногда кажется, что, если бы Достоевский не умер, Александр Второй не был бы убит и эпоха русского идеализма, веры в Народ-Богоносец и во всемирное провиденциальное значение России не закончилась бы так трагично. Так и судьба Шаламова, таинственная, загадочная, какой только и может быть истинная судьба, судьба, поставившая перед человечеством вопрос о смысле его бытия среди немой, но чистой природы, эта судьба оборвалась, когда, кажется, и для других жизней человеческих места уже не остается. Впрочем, сам Шаламов не был настроен столь безнадежно: себе и своим читателям он предрек жизнь славную и бесконечную. Он сказал:
Тебе обещаю, –
Далекая Русь,
Врагам не прощая,
Я с неба вернусь.
Пускай я осмеян
И предан костру,
Пусть прах мой развеян
На горном ветру.
Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца.
19-20 января 1982 года
Опубликовано на сайте: 2 мая 2011, 14:27
Комментарии закрыты