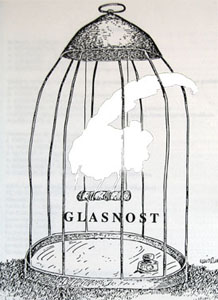
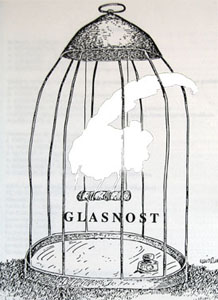
Материал подготовлен на основании интервью, которое С. Григорьянц дал редакции “Индекса” в январе 1999 года.
В 1963 году с Шаламовым меня познакомил Валентин Валентинович Португалов. Он провел лет 20 на Колыме, и там хорошо знал Варлама Тихоновича. С этих пор я продолжал встречаться с Шаламовым на протяжении лет пяти часто, потом, до 1975 года — реже.
В это время был необыкновенно популярен Солженицын, но его вещи, и в первую очередь по сравнению с прозой Шаламова, мне не были тогда близки. У меня было представление — не знаю, насколько оно убедительно сегодня (надо продумывать заново) — что структурно, жанрово Солженицын не соответствует материалу, о котором он пишет. В 61 году вышел «Один день Ивана Денисовича», в самиздате распространялся «В круге первом». Против каких-то деталей в книгах Солженицына были серьезные возражения у тех, кто был в лагере. Скажем, он делает одним из своих героев бригадира. Но каким бы он ни был, бригадир по своему положению заставляет работать умирающих людей, он — убийца. И никакие моральные разговоры этой сути изменить не могут… Главное же, я полагал, что в мире, где кульминации нет и не может быть, где смерть разлита с первой буквы до последней, где не может быть никакого нарастания действия, никакого развития, невозможны и литературные формы, которые выработаны совершенно другими обстоятельствами и другой природой человека, а потому вводить такой материал в тургеневские структуры — изначально ложная посылка: здесь неизбежна внутренняя недостоверность художественного, да и любого другого смысла.
И это для меня бесспорно подтверждалось тем, что делал Шаламов. Здесь был не просто, как я видел, более глубокий и точный лагерный опыт, это была иная подлинность мира. Шаламов вышел из лефовского круга, где к форме относились серьезно. В 30-е годы он уже выпустил книгу очерков. Он был близок к Сергею Третьякову, к Брикам… Когда Солженицын попал в лагерь, он еще не думал о литературе всерьез. Шаламов попал в лагерь первый раз прямо из московского университета, и это был его предварительный опыт. Потом он оказался в центре литературной жизни, хотя и не был центральный фигурой. Основной задачей Шаламова был поиск формы, вмещающей доселе небывалый для человеческого сознания опыт. Естественно, форма неизбежно должна оказаться новой для литературы. Кстати, мне кажется, именно поэтому в 60—70-е его мало кто понимал. Простота и ясность Шаламова казались большой странностью и трудно воспринимались. Его читал очень узкий круг не только потому, что это был самиздат, но и потому, что русская интеллигенция в самиздате искала информации, а не литературы. Это было время литературы о лагерях — вот я в связи с Солженицыным сказал «тургеневской», но, может быть, правильней было бы сказать — народнической. Книга Евгении Гинзбург, воспоминания генерала Горбатова… Это было время рассказов о лагерях, а не понимания человеческой природы. И в этом смысле Шаламов был бесспорным исключением.
Всех интересовали события: что же было по-настоящему. Для того времени были очень характерны реплики Твардовского. Когда Анна Андреевна прислала ему «Поэму без героя», Твардовский прочитал и честно сказал: «Ничего не понимаю, но это Ахматова — будем печатать»… То есть было почтение к судьбе XX века, но не было понимания литературы нашего времени. В этом состояла существенная слабость «Нового мира»: при всем его замечательном значении, это был журнал XIX века, продолжающий традиции «Русского богатства»… У Шаламова не было такого имени, а точнее, не было никакого имени, и поэтому, когда «Колымские рассказы» попали к Твардовскому, он, как мне передали, сказал: «Ну что это, какие-то очерки… Нам это не нужно». Это был характерный парадокс того времени: наиболее сложная, напряженная и внутренне насыщенная литература воспринималась как недостаточно профессиональная и малоинформативная. Вся среда «Нового мира» весьма скептически относилась к литературе XX века, к авангарду, к новым опытам.
Кроме того, Варлам Тихонович лишился единственной в то время среды, которая могла быть близка ему — это было нечто вроде салона у Надежды Яковлевны Мандельштам. Надежда Яковлевна была человеком довольно высокомерным, а тут — Шаламов, который считает себя еще и писателем, а не только почитателем Мандельштама… И Шаламов оказался вне даже этого кружка, остался один… Хотя и он, и Вячеслав Всеволодович Иванов рассказывали мне несколько по-разному одно и то же. После своего последнего освобождения Шаламов, хотя и оказался на свободе, но уехать, как и другие бывшие зеки, из Магадана не мог и решил, что и умрет здесь. Ему удалось уговорить знакомого врача, возвращавшегося на Большую землю, передать свою «Синюю тетрадь» Пастернаку. Рассказывают, что тот ходил по Переделкино и всем говорил: вот, смотрите, есть в России поэты, какие замечательные стихи… Пастернак ответил Шаламову большим письмом, послал свой перевод «Гамлета» с дарственной надписью на весь фронтиспис. Их недолгая переписка была очень важна для Варлама Тихоновича. К Шаламову очень хорошо относился Аникст, может быть, еще несколько человек — но всего несколько человек. И все это при его собственном ясном понимании своего места в литературе, ясном понимании значения того, что он делает.
Варлам Тихонович был человеком жестким. С лагерным неприятием приспособленческого мира… Он осуждал Толю Жигулина, который перемежал лагерные стихи «вольными» для того, чтобы напечатать лагерные, Аркадия Белинкова, который, чтобы его книга о Тынянове вышла, включил в нее какое- то место о троцкистах, отравлявших колодцы… Не принимал попыток сказать правду за счет неправды. Плохо относился и ко всем вступлениям в Союз писателей. В тот период его позиция была абсолютно твердой, но повторяю: он чувствовал себя совершенно одиноким — люди, которые хорошо к нему относились и к которым он сам относился неплохо (в том числе и я), были людьми совсем иного опыта, а потому и иной внутренней структуры. Его одиночество было непреодолимым. Однажды Щипачев (секретарь Союза писателей Москвы, человек, считавшийся по тем временам необыкновенно либеральным) узнал, что вот есть такой писатель Шаламов, и прислал своего секретаря, чтобы тот взял стихи и рассказы «для ознакомления». Теоретически дать было бы полезно. Но для Шаламова это было настолько оскорбительно, что он ничего не дал, и рассказывал мне об этом, как бы размышляя, но не желая ничего менять. Это был одновременно и «пафос дистанции» (популярная тогда формула) великого писателя от литературного чинуши, и гордость зека, и обида на ничего не понимающий мир.
У Варлама Тихоновича в последние годы не было пишущей машинки. Я для себя и для него перепечатывал довольно много его рассказов и стихов на своей «Эрике». До этого что-то перепечатывалось на машинке его второй жены. Когда они развелись, он переехал в соседний дом, тоже на Хорошевском шоссе, где у него была одна комната, очень запущенная. К тому же у Варлама Тихоновича (как фельдшера) была замечательная идея о том, что поскольку вода грязнее воздуха и в ней больше микробов, то немытый стакан чище мытого. Стаканы были зеленые… В этот период написана большая часть его рассказов. Я попытался помочь опубликовать его рассказы, дал их опять в «Новый мир» Игорю Александровичу Сацу, с которым был в хороших отношениях, в киевский журнал «Радуга», еще куда- то, но из этого ничего не вышло. К сожалению, я давал его рассказы нескольким иностранным студентам, которые привозили книги из-за границы. В результате в 68 году в Германии вышла первая книга его рассказов, где были перевраны и его имя, и его фамилия (Варлаам Шаланов — стояло на обложке), и вообще ему было очень неприятно, что первая книга его прозы вышла по-немецки, а не по-русски. В России издавались только стихи. И к тому же проходили как бы незамеченными. Это была в значительной степени пейзажная лирика, за которой стоял лагерный мир. Причем была важна цельность циклов и их последовательность — Шаламов устанавливал строгий порядок в своей лирике, иначе все разрушалось, и было не так легко понять смысл, опознать — из какого это мира… Но в книгах все циклы были разбиты редакторами.
Издание рассказов за границей вызвало, конечно, чудовищный скандал. Единственным журналом, который Варлама Тихоновича печатал, была «Юность». Там работал Олег Чухонцев в отделе поэзии, отделом заведовал поэт Сергей Дрофенко, который замечательно и понимал, и знал поэзию. В общем, насколько я знаю, Шаламова пригласил к себе Полевой, сказал, что время неясностей прошло, что если он не напишет письма в «Литературную газету» о том, что это сделано без его ведома… в антисоветских целях…что он возмущен публикацией и т.д. и что если он не вступит в Союз писателей, «Юность» печатать его не будет, да и книги его не будут издаваться.
Варлам Тихонович на самом деле все эти годы чувствовал себя на грани ареста. Зачастую он выходил из дому уже с сумкой, где было все необходимое для тюрьмы. Арестуют на улице — некому будет передать. Тюремное вафельное полотенце вместо шарфа было и привычкой, и символом — лагерь всегда в нем и всегда рядом. Он жил абсолютно нище, жил на микроскопическую пенсию. И на публикации, которые случались раз в год. В то же время он ощущал, ценил себя как сосуд, вместивший страшный и незнакомый человечеству опыт. И он подписал это письмо, я думаю, не из страха, но чтобы успеть передать другим свое знание…
Периодически в его жизни появлялись женщины, сейчас некоторые из них сильно преувеличивают свое в нем участие. А участие ему было необходимо. Именно поэтому ему было так важно внимание Сиротинской. После того, как Шаламов доверил ей право распоряжаться своими рукописями, ЦГАЛИ был получен весь архив Шаламова и спрятан в спецхране, для работы в котором нужен был допуск к «секретным материалам». После чего, пользуясь своим полуофициальным правом распоряжаться рукописями, она сделала все, чтобы его произведения не увидели света как можно дольше. Первые публикации появились только в 1989 году. Полагаю, они могли и должны были появиться раньше.
После своего первого возвращения из тюрьмы, когда мне еще не разрешено было жить в Москве, я узнал, что Шаламов находится в доме для престарелых. Улица Вилиса Лациса. Туда я и поехал… Варлам Тихонович почти не говорил. Горло его было опять обмотано грязным вафельным полотенцем… Врачи на мой вопрос ответили, что почти никто не приходит, иногда родственники парализованного соседа дадут немного печенья или плавленый сырок, раза два в год бывают дамы из Литфонда. Варлам Тихонович постоянно что-то невнятно бормотал. Саша Морозов понял, что это были стихи, записал и опубликовал предсмертный цикл. Вскоре вышел том рассказов по-русски, но в «YMKA-Press», Шаламову была присуждена французская литературная премия. Интерес к нему возрастал и теперь уже все больше людей приходило к Шаламову в дом для престарелых, приходили и врачи, и просто посетители. Всего этого было слишком много для КГБ восьмидесятого года. И на Лубянке было принято решение запереть его в психушке — больнице для психохроников. Врач Лена Хинкис (Дмитриева), присутствовавшая при смерти Варлама Тихоновича и выяснявшая все обстоятельства, рассказывала мне, что он как мог сопротивлялся: изможденный, иссохший, этот старик отбивался, срывал с себя то, во что его пытались заматывать, вынося на январский мороз. Кажется, они никак не могли с ним справиться. Впрочем, вряд ли этих приехавших за ним красномордых молодых людей волновало, замерзнет ли он. В результате заключения в психушке не получилось, у Шаламова началось острое воспаление легких и через несколько дней он умер. (Он сам и предсказал свою смерть — замерз.) Судьба Шаламова, его гибель, как и в рассказах, — как будто не развязка, а жизнь природы, потерявшей «очеловеченный» облик. Шаламова и убили те, кто создал эту нечеловеческую природу людей.
Варлам Тихонович просил ничего не говорить на его похоронах (я не знал этого), и тот некролог, который был опубликован в «Континенте» и стал одним из пунктов моего второго обвинения, на самом деле был не произнесенным на могиле надгробным словом. Потухнут свечи восковые/ В еще не сломанных церквах,/ Когда меня внесут впервые/ Со смертной пеной на губах.
По рассказам Варлама Тихоновича, Солженицын просил Шаламова ему помочь и с ним сотрудничать. Думаю, что слава Солженицына в 60-е — начале 70-х уязвляла Варлама Тихоновича. Но, по-моему, тогда еще не был понятен масштаб Солженицына — автора «Архипелага», масштаб Солженицына как крупнейшего в русской, а может, и в мировой истории литератора, оказавшего влияние на историю своей страны, да и всего мира. Тогда было просто два писателя, с тем или иным лагерным опытом, пишущих примерно на одну и ту же тему. И все складывалось несправедливо в отношении Шаламова… Сейчас я пытаюсь реконструировать понимание отношений в 60-х — начале 70-х годов. Тогда еще не было ясно, что у Солженицына действительно глобальное историческое мышление. Это не было очевидно ни Шаламову, ни многим другим.
Шаламов скептически относился к предположению, что можно писать вместе. Он относился серьезно к литературной форме и языку, говорил, что это не пиджак, который можно снять или переменить. В Солженицыне, кроме чисто лагерных ошибок, он не принимал, в частности, того, что он пользуется далевским словарем. Говорил, что язык нельзя выдумывать и нельзя брать из словаря, язык должен быть внутренним, это внутренний механизм, не может быть искусственно созданного языка, как не может быть и искусственной формы.
Но противопоставлять Солженицына и Шаламова легко… Сложнее, но, может быть, правильней сегодня говорить об общем их неприятии того, что с нами произошло и происходит, об открытии ими нового внутреннего (у Шаламова) и социального мира человечества, поиске выхода из катастрофы, на которую обрекает себя человечество. Я бы сказал, что их объединяет не столько общность опыта, сколько осознание вплотную придвинувшейся катастрофы.
Как мне представляется, Солженицын — это мостик, переходный элемент между миром человеческим, не понимающим запредельной сути того, что на самом деле было на Колыме, и тем, колымским миром. Именно благодаря тому, что он там почти не был, именно благодаря своим ошибкам. Он не вполне тот и потому понятен. Хотя и он — бесспорно оттуда.
А Шаламов, подобно немногим человеческим гениям, обнажил совершенно другую природу человека. Того, что показал он, просто не существовало в понимании человека о самом себе. В этом смысле его можно поставить рядом с Достоевским… С теми, кто открыл другое качество человеческой природы. Именно поэтому Шаламов не воспринимался большинством читателей. Он представил нечеловеческий мир с той степенью концентрации и ясности, которая и делает невозможным восприятие. Мир способен лишь постепенно понимать о себе то, чего в момент события понять не может… Сначала нужна информация. А на информацию наслаивается понимание.
В последние десятилетия нашего века, параллельно с технологическим прогрессом, параллельно с чудовищно реальной опасностью самоуничтожения человечества, идет процесс внутреннего познания, внутреннего самоопознания. И человечество за последние 30 лет прошло очень большой путь. Это дистанция — как от «газиков» того времени до космических кораблей. Первая мировая война, потрясла и разрушила гуманистический мир. Отравляющие газы, лагеря, танки… Это было потрясение сознания… На этом разломе возникло современное искусство, литература. Он же был причиной появления коммунизма и фашизма.
Шаламов настолько крупен, что он не отставал, он всегда был внутренне в этом потоке осмысления. И в этом он опережал развитие русского общества. Никто не смог так написать и так глубоко передать запредельную суть опыта, который мы прошли. Сейчас мы только подходим к пониманию этих чудовищных процессов и подходим, опираясь на то, что обнажил Шаламов.
Опубликовано на сайте: 15 февраля 2011, 16:28
Спасибо Вам, Сергей Иванович, за очерк. Давно-давно пробовала читать рассказы Шаламова в ” Юности”. Не смогла. Как правильно Вы сказали” нечеловеческий мир с той степенью концентрации и ясности, которая и делает невозможным восприятие”. Даже ” сволочи” о них не скажешь!
13 февраля 2016, 21:31