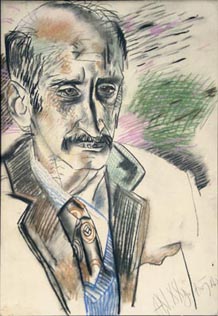
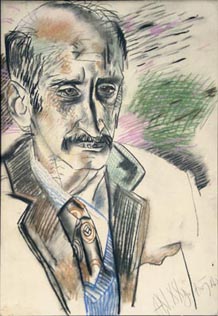
Шаламов и либеральная интеллигеция. Литературный мир. Солженицын
Шаламов и “тамиздат”. Отношение к эмиграции
Письмо в Литературную газету, 1972
Шаламов в доме престарелых. Александр Морозов
Архив, Ирина Сиротинская
[...] утверждения Сиротинской, что архив Шаламова был открыт — это прямая ложь. В 81-83 годах я сам работал над какими-то текстами о лагерном и уголовном мире, что, кстати говоря, является одним из пунктов моего обвинения и приговора в 83-м году. И поэтому в конце 82-го или начале 83-го года попробовал сравнить изменения в «воровских законах» с 30-х по 70-ые годы, для чего решил прочесть рукописи Шаламова о воровском мире и приехал в ЦГАЛИ. Директор архива Наталья Борисовна Волкова, с которой я был в довольно хороших отношениях, тем не менее, мне отказала, даже не спрашивая есть ли у меня «отношение» из какой-нибудь редакции, Сиротинская, с которой я внешне был в нормальных отношениях, поскольку тогда я о ней ничего не знал, и которая была заместителем директора архива, встретила меня в коридоре и доверительно мне сказала, что архив на «секретном хранении» и никакое «отношение» из редакции или издательства мне не поможет, нужен допуск к секретности.
С чем я и уехал. Примерно в это же время Саша Морозов, который записал последние стихи Шаламова, и еще кто-то, не могу вспомнить фамилию, кто хотел писать о Шаламове, тоже пытались получить допуск к его рукописям, и им это не удалось. Впоследствии, в конце 80-х начале 90-х годах, архив Шаламова формально стал открытым, но всем было известно, что Сиротинская никого к нему не допускает, считая его своей собственностью, якобы из конкурентных соображений. Но, вероятно, по-прежнему сохранялись и цензурные.
[...] что касается Сиротинской, то ее [возможная] работа по поручению ГБ является уже просто дополнительной нагрузкой. Вы забываете, что будучи сотрудником ЦГАЛИ она официально была сотрудником МВД, поскольку архивное управление было частью Министерства внутренних дел в то время. Уже поэтому с точки зрения закона, действующего во всех европейских странах, она не могла быть наследницей Шаламова независимо от какой-либо незаверенной его записки, которую она показывает, поскольку убийца или человек причастный к убийству не может быть наследником жертвы, а к смерти Шаламова и МВД, и КГБ бесспорно приложили руку. Михаил Яковлевич Геллер был чудовищно возмущен тем, что она посмела в один из своих сборников включить его статью, конечно, без его разрешения. У Сиротинской было задание получить архив Шаламова, она его получила, после чего Шаламова, конечно, бросила. Архив был помещен на секретное хранение, и к нему никто не имел доступа. Я был в довольно хороших отношениях с Зильберштейном и соответственно с [его женой] Волковой (директором архива), но мне ничто не было показано даже в 87-ом году.
[...] жаждущий хоть какого-то человеческого участия Варлам Тихонович действительно хорошо к ней относился. Едва ли в не последний раз перед моим арестом в начале 75-го года я его неожиданно встретил в Ленинской библиотеке. Шаламов мне сказал, что занят поисками материалов о Чугуевском периоде жизни Репина, и спросил, не знаю ли я кого-нибудь, кто может ему помочь. Я знал только Зильберштейна, выпустившего три тома о Репине, дал ему телефон, совершенно не представляя себе, что он это делает для работы Сиротинской в архиве, где Волкова, будучи женой Зильберштейна, всеми материалами его располагала.
Действительно, живых людей, знавших Шаламова, остается все меньше. Я тоже думаю, что он великий писатель и был уверен в этом с года 63-го, когда нас познакомил поэт Валентин Валентинович Португалов — они были дружны с Шаламовым еще на Колыме. Кстати говоря, Любовь Васильевна – вдова Валентина Валентиновича, года два назад была еще жива[...] «Варлашу» она тоже помнит еще по Колыме.
Что же касается расхождения Шаламова с Солженицыным и Надеждой Яковлевной, я думаю, да из рассказов Варлама Тихоновича это вытекало, что здесь все несколько сложнее. Надежда Яковлевна человек была довольно диктаторский, Варлама Тихоновича вполне принимали в ее кружке пока воспринимали только как колымчанина и почитателя Мандельштама. Но когда выяснилось, что он сам пишет не только прозу, но и стихи, а и то, и другое резко не понравилось Надежде Яковлевне, к нему стали относиться, как к неизвестно на что претендующему писаке. Дело кончилось скандалом, и он перестал там бывать.
Шаламов и либеральная интеллигеция. Литературный мир. Солженицын
В 60-е годы это было довольно распространенное у московской либерально настроенной интеллигенции отношение к Варламу Тихоновичу. Его гениальную, но новаторскую прозу почти никто не воспринимал. После того как был напечатан «Один день Ивана Денисовича», я через Игоря Александровича Саца (тогда члена редколлегии Нового мира), с которым я был дружен, передал рассказы Шаламова Твардовскому. Твардовский их прочел, сказал, что это какие-то очерки и отказался печатать. Александрович Трифонович был, конечно, хороший человек и большой поэт, но весь из XIX века и искренне не понимал литературы века XX. Я помню, как перед публикацией «Поэмы без героя» он честно сказал: «Ничего не понимаю, но это Ахматова и мы будем печатать». У Шаламова не было имени Ахматовой.
С Солженицыным все было гораздо сложнее. Нужно иметь в виду, что Шаламов уже был профессиональным литератором, в 30-е годы прошедший школу у Третьякова и выпустивший книжку своих очерков, а Солженицын был дилетант, сельский учитель математики, который не понимал многих самых элементарных вещей в структуре и языке литературного произведения, но обладал очень большой уверенностью в себе и своем призвании. Я мог бы больше написать об их литературных расхождениях, но частью это есть в опубликованной с недостойным предисловием Солженицина их переписке. Главное в другом — КГБ, конечно, были выгодны расхождения между Солженицыным и Шаламовым, но они были вполне естественными, а не искусственно созданными. После 62 года Шаламову, уже написавшему большую часть гениальных «Колымских рассказов», была обидна всемирная слава «Одного дня Ивана Денисовича» написанного под бесспорным влиянием старомодных тургеневских повестей.[...]
Мы с ним пару раз обсуждали возможность для меня написать критическую статью об «Одном дне Ивана Денисовича», конечно, напечатал бы ее только «Октябрь». Для меня бы это был разрыв с множеством моих знакомых, но меня тогда это скорее веселило, тем более, что речь в этой статье должна была идти о том, что только человек, ничего не понимавший в лагерной жизни, мог сделать положительным героем — бригадира, который был убийцей по самой своей должности — он заставлял работать и умирать на работе, точно понимая, что он делает. Я хотел написать тогда о том, что ложью является сам жанр «одного дня» – жанр тургеневской повести.[...]
А уж коммунистка Евгения Гинзбург со своими издевками по поводу героини Спиридоновой, всю свою жизнь проведшей в царских и советских лагерях, и любительскими стишками в эпиграфах, перемешенными со стихами Блока, и вовсе была для Шаламова не то, что даже недостойным, скорее непристойным персонажем. Понятно, что для всей советской либеральной среды Гинзбург была (и остается) гораздо более близка, понятна, популярна чем Шаламов.[...]
Шаламов хотел публикаций, боролся за издание своих рукописей, но великие писатели часто это делают хуже, чем люди более практические. Помню, как он мне рассказывал, что Степан Щипачев — поэт вполне бездарный, но тогда председатель Союза писателей Москвы и к тому же делавший различные либеральные телодвижения (именно он настоял на принятии в Союз писателей Беллы Ахмадулиной и, кажется, Андрея Синявского), решил узнать, кто же это такой Шаламов, и прислал к нему свою секретаршу с просьбой дать экземпляр рассказов. Варлам Тихонович был оскорблен тем, что какой-то Щипачев присылает к нему секретаршу, и рассказов не дал.[...]
Он сознательно не вступал в Союз писателей. Он не написал ни одного «датского» стиха (то есть к советским праздничным датам для лучшей проходимости сборника или подборки), что делал, например, осуждаемый им за это, хотя и высоко ценимый, Толя Жигулин. Шаламов всегда упоминал, что Аркадий Викторович Белинков для публикации блистательной книги о Тынянове включил туда упоминание, что троцкисты отравляли колодцы.
[...] я тем не менее никогда не возражал, слушая инвективы в их адрес Варлама Тихоновича, считая, что такие вопросы человек с таким (у меня тогда отсутствовавшим) опытом решает каждый для себя — нет одного решения для разных людей.[...]
Во всем этом мире Шаламов ясно понимал, что он один, один как хранитель высокой русской культуры, один как проживший и понявший ад, несравнимый ни с какими кругами ни Данте, ни Солженицына, один как непримиримый борец, выкованный лагерем и противостоящий любым даже мельчайшим уступкам.
[...] возвращаясь к Шаламову, к его противостоянию и одиночеству и в слове и в жизненной позиции и в памяти, нужно иметь в виду, что существовала тогда и вовсе гнусная часть лагерно-мемуарной литературы — пара книг, написанных вполне бездарными людьми, которые и до ареста были стукачами (Заславский и другие) и в лагере оставались ими же, почему и выжили. И с ними тоже либеральные советские интеллигенты ставили рядом поэзию и прозу Шаламова (повторяю — ему было совсем не до эмигрантских распрей, да он и не знал о них ничего).
Наконец была и еще третья позиция в отношении к «литературе ГУЛАГА», тихо, но твердо представленная очень достойным и уважаемым человеком и при этом — прекрасным прозаиком — Сергеем Александровичем Бондариным. Он считал, что суетиться со своими воспоминаниями — постыдно, а кому-нибудь что-то объяснить — невозможно. Сергей Александрович никому своих воспоминаний не показал, не попытался их опубликовать и не дал в «Самиздат», а с большим трудом добился того, чтобы ЦГАЛИ взял их на хранение без права показывать тридцать лет. Они до сих пор не опубликованы и, вероятно, никому не известны.
Таким образом и люди, и позиции тех, кто писал о Колыме, были тогда очень разными, и я знал обо всех. Но противостояние Шаламова мне было ближе всего. И потому, когда появилось письмо в «Литературной газете», я написал ему, что считаю это недостойным. Хотя мне кажется — не отправил это письмо, просто перестал ему звонить.
Шаламов и “тамиздат”. Отношение к эмиграции
[...] не только папка, увезенная Хенкиным, стала основой для публикаций Шаламова. За границу рассказы его передавали многие — я знаю по меньшей мере трех человек и я сам был четвертым. Это далеко не всегда были собранные самим Варламом Тихоновичем циклы, зачастую это были случайные подборки рассказов. Скажем, не в том порядке, в котором их потом располагал
Шаламов, а в том, котором они писались им и давались знакомым. Весьма вероятно, что с этим как раз и связанна хаотичность публикаций. Большой том «Колымских рассказов», изданный Струве, вполне очевидно, собран из нескольких таких подборок, а не является перепечаткой папки, который дал Шаламов Хенкиной, впрочем Струве можно об этом спросить.
Хаотичность публикаций Варлама Тихоновича в зарубежной печати, конечно, была связана и с тем, что редакторы, как это было и с Твардовским в Советском Союзе, просто не были способны понять, с чем они имеют дело.[...]
Что касается других людей которые могли и отправляли рукописи Шаламова на Запад, то двоих из трех Вы сами назвали — это Наталия Кинд и Столярова, третья была итальянка[...]
Итальянок, которые увозили самиздат, известных мне, было по меньшей мере две — материалы одной из них в моем обвинительном заключении и приговоре в 75-ом году, ее выслали в году 68-ом, дали ей билет на поезд в отдельном купе и там сразу же устроили обыск. Это Сирена Витале. У нее было большое количество материалов, в том числе и мои. Вторая была дочь известного итальянского профессора слависта, очень дружила с Юнной Мориц и, кажется, довольно безболезненно вывезла или передала с кем-то все, что мы ей давали, в том числе и рассказы Шаламова и стихи Горбаневской.
Шаламов к эмиграции относился настороженно, к успеху за рубежом, я полагаю, как и Неклюдов, не стремился — ему нужно было понимание на родине, осознание внутри России того, что произошло с ее народом, ее культурой, с ее историей.
Раздражение по поводу публикаций в эмигрантских журналах, за которыми он не следил и не мог следить, на мой взгляд, слишком мелкое для него обстоятельство, чтобы вынудить его подписать такое письмо. К эмиграции он относился как к какой-то нечистой суете непристойным образом сбежавших из советского лагеря людей, ему она не была интересна. Скажем, меня, профессионально в эти годы занимавшегося для «Литературной энциклопедии» этой темой и уже довольно много знавшего о журналах русской эмиграции, о публикациях он никогда не спрашивал, и это не было недоверием — это было отсутствием интереса.
Письмо в Литературную газету, 1972
Что касается письма Шаламова в «Литературной газете», то я боюсь, что здесь Вы не правы. Я в это время из «Юности» уже был уволен, но вполне заслуживающие доверие сотрудники журнала мне рассказывали, что это письмо было написано Борисом Полевым, который пригласил к себе Шаламова и сказал, что, если он не подпишет этого письма, то в «Юности» его стихи больше печататься не будут (а это был единственный журнал, который печатал Шаламова) и не о какой книжке он тоже может не думать. По воспоминаниям Варлам Тихонович в эти дни не выходил из дому без мыла, зубной щетки и пары сменного белья в авоське, считая, что может быть арестован и на улице тоже.
Тем не менее, он согласился подписать это письмо совсем не из-за возмущения журнальными публикациями, а потому что в это время в Германии вышла первая книжечка его рассказов в переводе на немецкий — именно она была причиной того, что КГБ и Полевой потребовали от Шаламова написать это письмо. В книжке этой были перепутаны даже его имя и фамилия, на обложке стояла Варлаам Шаланов и к тому же Варламу Тихоновичу было глубоко отвратительно, что первая книжка его рассказов была немецкой, а не русской, причем он подозревал, что качество перевода такое же как и написание его фамилии. Что же касается тома изданного YMCA-Press, то не высказывая этого вслух, Шаламов был ему, конечно, очень рад и держал его при себе даже в доме престарелых на Вилиса Лациса.
[...] о том, что это письмо написано Полевым мне рассказывал Олег Чухонцев, которого Варлам Тихонович очень любил и ценил как поэта и подарил одну из своих рукописей, а Олег, как Вы знаете, много лет работал в «Юности».
[...] я вполне верю рассказу Олега Чухонцева и думаю, что Варлам Тихонович сказал ему сам.
[...] я, как и Вы, считаю вполне возможным, что Варлам Тихонович далеко не все мне говорил, и чувство конспирации, конечно, у него было внутренним и неизбежным в отношении со всеми, с кем он разговаривал. Кстати говоря, с лагерных времен у него сохранилось просто физиологическая невозможность о чем-либо говорить с двумя собеседниками одновременно, он всегда замолкал: по представлениям сталинского времени свидетельство одного — не доказательство, свидетельство двух — верный срок.[...]
Писем Шаламова мне не могло и быть, потому что он просто не знал моего адреса — в эти годы я жил то в разных комнатах общежития Московского университета, то в постоянно менявшихся квартирах, которые мы снимали с женой. Постоянный адрес в Москве у меня появился в 72-ом году, когда с Варламом Тихоновичем я практически не виделся (кроме упомянутой мною встречи в библиотеке). Письмо, которое упоминает Сиротинская — это скорее всего мое письмо к Варламу Тихоновичу. Таких письма было два, поэтому я не знаю, о каком из них идет речь, причем, одно из них я, кажется, не отправил. Оба были не столько письмами, сколько записками, относились к 66 и 68 году и были, действительно, довольно неприятными. Первое было результатом недоразумения — я позвонил по какому-то поводу Шаламову, а он из-за своей глухоты меня не узнал и спутал с каким-то не известным мне человеком, который в это время настойчиво его преследовал, и Варлам Тихонович наговорил мне какие-то слова, которые относились к другому человеку. Я не помню, то ли послал ему письмо, то ли что-то сказал при встрече, и он страшно огорчился, с каким-то даже самоуничижением начал говорить, что Вы меня простите пожалуйста, глухого, я Вас с кем-то спутал (он называл имя, я забыл его). Тем дело и кончилось, но может быть на самом деле я ему послал эту записку удивленную, возмущенную и он, приложив не малые усилия, разыскал меня по телефону общежития университета, где был один телефон на весь этаж.
Кстати говоря, именно у Кинд[...] я и произносил это прощальное слово, которое не было сказано на кладбище, и которое, кстати говоря, было единственным на поминках. Уже то, что двадцать или двадцать пять человек провожавшие Шаламова считали правильным, чтобы слово о нем говорил человек недавно вернувшийся из лагеря — как раз ясно обнаруживало восприятие Варлама Тихоновича, как человека, как писателя, противопоставленного всей советской системе не только сталинской, но и тогдашней — то есть человека принадлежавшего именно к диссидентскому миру.
Первый раз, вероятно, это было в 64-ом году, вскоре после того как нас познакомил Португалов, я был у Шаламова еще в квартире Неклюдовой. Это было в соседнем (или через один) домике, построенном немецкими военнопленными в начале Хорошевского шессе, где переехав от Неклюдовых потом жил Шаламов. Маленькие комнатки Неклюдовых были одним из самых приятных и лучших примеров интеллигентных жилищ того времени — там все было очень уютно с большим вкусом, были видны, что имело в то время большое значение, хорошие книги писателей начала века, да и сама Неклюдова производила очень приятное впечатление — это была немолодая, но очень располагающая к себе женщина невысокого роста, но громадный, худой лагерник Шаламов выглядел в этой уютной квартирке довольно странно.
Когда, я думаю, что довольно скоро, ему опять позвонил, мне дали уже другой телефон и новая комната Шаламова ничего общего не имела с квартиркой Никлюдовых. И чтобы ни говорила Сиротинская, Шаламов тогда стаканы не мыл и они были зеленными, впрочем, и во всей комнате была очень большая неухоженность и нищета. У Неклюдовой был сын — Сережа, примерно моего возраста, очень приятный и интеллигентный молодой человек, работавший, кажется, редактором в издательстве «Искусство».
Раза два или три я его случайно встречал. Поскольку Варлам Тихонович был нашим общим знакомым, я пытался говорить о нем, но Сергей всегда категорически отказывался продолжать эту тему. Ни он, ни его мать, насколько я знаю, никогда и ничего не говорили о Шаламове. Думаю, что они высоко ценили его как писателя, но он оказывался очень тяжел в совместной жизни. Впрочем, это только мое предположение.
[...] на кладбище, а перед тем в храме (забыл название) на Большой Ордынке, где Варлама Тихоновича отпевали, я думаю, в общей сложности может и было человек 150, но на поминках людей было гораздо меньше — человек 25, максимум 30. Сиротинская была только на кладбище, но появилась как-то внезапно около церкви. Я с ней оказался в одной похоронной машине по дороге на кладбище. С ней не только никто не здоровался, но даже и сесть рядом никто не хотел — около нее было пустое место. Похоронами руководил Боря Михайлов, запевал поминальные тропари, с которыми процессия с гробом Варлама Тихоновича шла от машин к могиле, именно он мне сказал, что Варлам Тихонович не хотел, чтобы что-то говорили на его могиле. Позже я понял, что он не мог этого знать, а от Марины Шамаханской и Сергея Ходоровича узнал, что Михайлов сыграл вполне провокационную роль в работе Солженицынского фонда примерно в это же время.[...]
О похоронах Шаламова я вспомнил еще одну деталь. И Сиротинская и я ехали на кладбище в катафалке с телом Варлама Тихоновича. Сиротинская прошла вперед и села рядом с его головой, я был где-то около ног. И катафалк и автобус, кажется, только один, были переполнены, на панихиде в церкви было довольно много людей и все они хотели поехать на кладбище, но рядом с Сиротинской оставалось два или три места — никто не захотел сесть рядом с ней. На поминках, как Вы понимаете, ее не было, да и в храме я ее не видел. Около получаса рядом с телом Варлама Тихоновича простоял опершись на палку Владимир Яковлевич Лакшин.
[...] именно у Кинд и прошли те поминки после возвращения с кладбища, о которых я упоминал, и именно там я и произносил это прощальное слово.
Шаламов в доме престарелых. Александр Морозов
После того как я сам с 75 по 80 год пробыл пять лет в лагерях и тюрьмах, где, естественно, меня очень многое еще и поражало и интересовало, я все это очень хотел обсудить с Варламом Тихоновичем. Тем более, что и сам хотел что-то написать. Выпущен я был, однако, во-первых, с запретом жить в Москве и Московской области и, во-вторых, со штампом на справке об освобождении «подлежит документированию по месту прописки», в переводе на русский язык это называлось — надзор, т.е. ограничение выходить из дому в какое-то время, ограничение в передвижении и необходимость раз в неделю отмечаться в милиции. У меня всего было месяца два на то, чтобы пожить с женой и найти себе какое-то жилье за пределами ста километров (это примерно радиус Московской области). Тем не менее, в первый же вечер у Миши Айзенберга — поэта, моего университетского приятеля, я спросил, где Варлам Тихонович: телефон его не отвечал, но это было естественно, потому что дом, в котором он жил на Хорошовском шоссе, был уже снесен. Сперва мне сказали, что в последние годы он жил по какому-то другому адресу, и обещали его выяснить. Занялся этим Леня Глезеров. Но потом оказалось, что Шаламова нет и по его новому адресу и вообще никто о нем ничего не знает и все о нем забыли. Недели через две, через Юру Фрейдина — человека, знавшего Шаламова по кружку Надежды Яковлевны, но к тому же врача, который мог запросить различные медицинские учреждения, Варлам Тихонович был найден. Мне передали от Фрейдина, что он находится в пансионате для больных стариков, не помню точно его название, на улице Вилиса Лациса. Я туда поехал первый раз с Леней Глезеровым (одного меня на всякий случай друзья не очень отпускали), и мы нашли этот дом для престарелых. Сперва я довольно долго говорил с его директрисой, которая все выясняла у меня, кто я такой и почему я его разыскиваю. Я сказал, что я старый знакомый, хочу помочь Варламу Тихоновичу, и это ее как-то очень расположило. Она мне в ответ сказала, что уже года два Шаламов находится у них, никто его не навещает, раз в год приходят из Союза писателей, кажется, на первое мая, какие-то дамы-патронессы с коробкой мармелада и иногда присылают какие-то приглашения из Союза писателей. Что Шаламову очень тяжело одному и даже просто хочется чего-нибудь вкусненького, но «сами понимаете, что у нас здесь за еда». После этого впустила нас в палату, где лежал Шаламов, на самом деле сидел раскачиваясь на кровати, говорил очень невнятно, но было видно, что меня сразу узнал и обрадовался. На грязной тумбочке валялись, действительно, какие-то приглашения из Дома литераторов. Апельсины, которые мы принесли, сперва спрятал под подушку, которая лежала прямо на грязном матрасе, уже до этого то ли директриса, то ли нянечка, ведшая нас в палату, пожаловалась, что Варлам Тихонович постоянно сдирает простыню. Тем не менее, при нас с некоторым трудом, поскольку Варлам Тихонович, действительно, ей мешал, начала заново застилать постель. Сосед Варлама Тихоновича был такого же возраста, но говорил более внятно, показал на засохший огрызок какого-то бутерброда на тумбочке Варлама Тихоновича и сказал, что это его дочь иногда его угощает. Мы были всего минут десять. За это время пришла дочь соседа, сказала, что иногда пытается что-то Шаламову дать, но он не всегда может и хочет съесть. Того, что мне говорил Варлам Тихонович, я понять не мог, но все, что я ему сказал, мне кажется, он вполне понял. Я пообещал, что обязательно постараюсь ему помочь. Леня Глезеров попробовал как-то ровнее поставить тумбочку, но Шаламов ему не дал.
Мои два месяца в Москве подходили к концу, надо было торопиться устраиваться, надо было опять идти к Варламу Тихоновичу, и на этот раз со мной захотел пойти Саша Морозов. Он слегка помнил Шаламова по встречам у Надежды Яковлевны. В первый раз и с Сашой мы были очень недолго, хотя на этот раз принесли больше продуктов и Саша гораздо лучше меня разбирал то, что говорил Варлам Тихонович. Саша сказал, что и без меня (я уже уезжал в Боровск на жительство) наладит уход за Варламом Тихоновичем. Из Боровска меня выпускали раз в месяц на три дня в Москву к семье, поэтому я только месяца через три опять пришел на Вилиса Лациса и опять с Сашей Морозовым. Саша с гордостью мне сказал, что на самом деле то непонятное мне бормотание Шаламова – это постоянное, как и в лагере, сочинение и повторение стихов, и что он эти стихи записывает и уже очень много собрал. Варлам Тихонович был не то что более ухоженным, но все-таки чуть более убранным и, может быть даже, чуть в более успокоенном состоянии. На голове у него была какая-то шерстяная шапочка. Саша мне сказал, что это ему связала одна из посетительниц. При нас пришла еще какая-то незнакомая мне дама, которая с большим терпением и ласковостью начала пытаться накормить Варлама Тихоновича, сам он почти не мог есть еще из-за того, что громадные руки у него так дрожали, что он почти ничего не мог поднести себе ко рту.
И тут произошел у нас с Сашей, на самом деле, очень серьезный разговор, о котором он никогда не хотел вспоминать. Саша мне сказал, что у Варлама Тихоновича теперь бывает очень много посетителей, мне подарили несколько фотографий совершенно замечательных, которые были сделаны первоклассным фотографом, и что вот теперь и Шаламов, и стихи, которые Саша записал, в центре внимания литературной Москвы. Перечислил он мне несколько немолодых дам, которые к нему постоянно ходят (пару фамилий я знал — это были сидевшие люди, но с какими-то сомнительными репутациями), врачей, которых он приглашал. Я Саше очень серьезно сказал, что не надо привлекать к Варламу Тихоновичу такого внимания, что это очень опасно. Саша с привычной для него резкостью ответил, что пусть они замаливают свои грехи — он имел ввиду безопасность тех дам, которых он водил, а я имел ввиду безопасность Варлама Тихоновича, но в некоторых случаях Саше ничего нельзя было объяснить. Я еще пару раз был у Шаламова, все было как и тогда, когда мы пришли с Сашей.
Остальное Вы знаете из воспоминаний Елены Викторовны [Захаровой].
Меня в Боровске каким-то образом нашла, кажется, Таня Трусова, она тоже часто ходила к Варламу Тихоновичу и для нее это имело большое личное и даже семейное значение — поскольку ее отцом [дедом] был Уманский, врач, который спас Шаламова на Колыме. Таня даже подписывалась в те годы Трусова-Уманская. Сказала мне о смерти Варлама Тихоновича и, по-моему, сразу же попросила написать прощальное слово. Когда я приехал в Москву, оно у меня было написано, и после поминок, по-видимому, кто-то у меня взял текст для «Континента».[…]
У меня под рукой сейчас нет заметки Саши Морозова для «хроники», но когда-то я ее читал и помню, что все там было не совсем так, кажется, он пишет, что это он нашел Шаламова (что же он не искал его три года до моего возвращения), а уж о моем предостережении он и все последующие годы отказывался вспоминать. Хотя однажды я ему сказал о некоторой его вине, опять встретившись у Миши Айзенберга, Саша сделал вид, что не понял.
[…] хочу сразу же объяснить вам, во-первых, кто такой Саша Морозов. Это человек, бесконечно любивший Мандельштама и собравший фантастическую картотеку о нем. Собственно, Мандельштам был единственным смыслом его жизни. Если не ошибаюсь, в 64-ом году, будучи редактором издательства «Искусство», ему удалось опубликовать «Разговор о Данте» Мандельштама — это была единственная публикация, да еще книга, за многие десятки лет. Кроме того, Саша был очень близкий и любимый всеми нами человек, к примеру, ездивший с моей матерью, кажется дважды, в разные лагеря и тюрьмы, где меня держали в первый раз. […]
Мелкие дополнения к тексту. Так серьезно я стал говорить с Сашой об опасности для Шаламова не только благодаря тюремному опыту, который мне многое подсказывал, но еще и из-за того, что, когда второй или третий раз я пришел к Шаламову, опять, как и в первый раз, решил поговорить о его состоянии с той же в общем-то очень доброжелательной женщиной (может быть, это была главный врач, а не директор). Но в этот раз от ее доброжелательства не осталось и следа, говорила она со мной очень сухо и неприязненно, сказала, что очень плохо, что так много людей к нему приходит, что это беспокоит других постояльцев, что они будут проверять документы у тех, кто приходит к Шаламову — это было довольно смешно — какое бюро пропусков в доме для престарелых. Но было ясно, что с ней уже компетентные органы проводили беседы. У Шаламова рядом с подушкой всегда лежал черный том «Колымских рассказов», есть сам он уже чаще всего не хотел да и почти не мог — руки так дрожали, что он не мог поднести ни ложку ко рту, не расплескав, ни даже кусок какой-то более сухой пищи. Его, действительно, надо было кормить, что дамы, которых привел Саша, ласково и усердно делали. В это же время опять стала помогать Шаламову Зайвая, Сиротинская туда не приходила ни разу.
Источник: Варлам Шаламов и концентрационный мир, Сергей Григорьянц. Дополнения к интервью – 1 ч., Сергей Григорьянц. Дополнения к интервью – 2 ч., Сергей Григорьянц. Дополнения к интервью – 3 ч.
Опубликовано на сайте: 2 мая 2011, 14:50
Огромнейшее спасибо,за эти воспоминания.Понимаю,что молодому поколению,многого не понять.Они не жили при Советах.И им всё до лампочки.Особенно понравился момент о “Иване Денисовиче”Солженицына.Я сколько читал комментариев к этому произведению,впервые встретил трезвую оценку.Никто никогда,почему-то не обращал внимание на бригадирство гл.героя.Потому что или далеки были от темы или умышленно боясь задеть “священную корову” “знамя”борьбы с сов.строем.А тот кто считал,”Колымские рассказы”выше любого произведения о лагерной жизни всегда почему-то помалкивали.Это ещё раз показывает двуликость,неоднородность и насыщенность суками этого движения.Простите за резкость,может я в чём-то и неправ.
25 октября 2011, 21:32