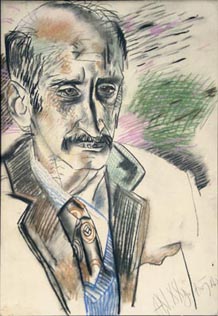
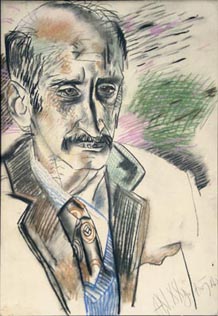
Миша Ривкин прислал мне соображения, дополненные воспоминаниями, о принудительном кормлении заключенных во время голодовки, и, вероятно, ожидал моего мнения. Да ещё на фейсбуке Коля Ивлюшкин, с которым мы вместе голодали в Чистополе, высказался по этому поводу. Тут и я решил что-то вспомнить и сказать, что думаю, хотя мое мнение, к сожалению, не совпадает ни с мнением Миши, ни с мнением Коли. Может быть, потому, что я вообще не считаю корректным сопоставление израильских тюрем с советскими и заключенных в этих тюрьмах с нами, а может быть потому, что я не так романтичен, как Коля и Миша.
Годы, проводимые в политической тюрьме, — это не отбывание срока заключения, что, кстати говоря, вполне самоотверженным образом, доказали и Миша, и Коля, а защита своих взглядов, собственного достоинства даже в этих условиях, отражение попыток уничтожить тебя как личность, довольно естественных для тюремного начальства. Для меня, скажем, все девять лет было важно и удавалось этого добиться, чтобы все охранники называли меня на «вы», хотя это создавало, конечно, множество проблем и оснований для попадания в карцер и казалось многим моим соседям совершенно излишним, если не смешным. Да и тюремщики мне все девять лет возмущенно говорили: «Почему вы нас за людей не считаете?» Ну, уж как есть…
Голодовка в тюрьме — одна из важнейших и широко распространенных форм этой борьбы или самозащиты, как бы мы ее не назвали. Но это форма борьбы, а не самоубийства, и, на мой взгляд, производится искусственное кормление или нет, принципиального значения не имеет, как не имеет принципиального значения, в каком режиме содержания ты находишься — общем, строгом или особом.
Конечно, голодовка может оказаться очень опасна для жизни. Именно поэтому даже уголовники, устраивая коллективные голодовки в тюрьме, запрещают в своей среде кого-нибудь уговаривать участвовать в голодовке. Только бессмысленная Лера Новодворская могла призывать несчастных ДСовцев устраивать голодовки, да ещё сухие. Не только эстонец Юри Куук, которого, по-видимому, имеет в виду Миша Ривкин, погиб от неправильного введенного ему искусственного питания, но и меня малоопытный врач в 1983 году в Калужском изоляторе едва не отправил на тот свет, недели через три после начала голодовки влив в качестве искусственного питания чудовищный по концентрации и чёрный по цвету мясной бульон, от которого у меня едва не случился инфаркт, и пришлось вызывать скорую помощь.
Голодовки давали тюремщикам и вполне рассчитанные ими возможности. Году в 1986, когда мы довольно упорно голодали втроем, но по разным причинам, с Анатолием Корягиным и Яниным, нам совершенно очевидно, желая запугать, в искусственное питание влили какие-то нейролептики. У всех троих начались судороги, температура поднялась до сорока двух градусов, и Корягин, будучи опытным врачом, понял, что это не случайность от какой-то испорченной влитой нам кашки, а вполне очевидное медикаментозное воздействие, иначе эффект был бы разным у каждого из нас. А месяца через три в Чистополе же, когда я оказался в камере голодающих с Анцуповым и ещё кем-то (не помню) Женя Анцупов в подобной ситуации просто разбил мне голову чайником. Его для искусственного питания почему-то вызвали одного в комнату начальника отряда, потом он вернулся, сказав, что там был врач Ахмадеев, а минут через пять начал рыдать в голос, говорить, что холод почему-то подбирается от его рук и ног к сердцу, что он готов всё написать, любые покаяния и показания, которые от него требуют, — ведь он же никогда не хотел для советской власти ничего дурного, и с этим криком начал бить по двери и ломиться в коридор. Я, уже наученный нашим с Корягиным опытом, понял, что ему что-то влили, попытался успокоить его и действительно получил чайником по голове. Женю вскоре вывели и куда-то поместили отдельно, но никаких его покаяний в печати не появилось: видимо, эффект оказался нестабильным.
Конечно, голодовка и искусственное питание могут стать откровенной пыткой, как это было с Мишей Ривкиным и как гораздо раньше, году в 1976, было и со мной. Причем я, как и Миша, пытки этой не выдержал. Тогда я в первом моем лагере добивался отправки на «химию», на что, по недоразумению, имел право, и, кроме того, что для лагерного начальства имело гораздо большее значение, писал о недавно погибшем старике-пастухе, ингуше, кажется. У него в колхозе появился новый председатель, который раз за разом стал требовать у него овечек, к тому же, заставлял писать, что их загрызли волки. Но старик был горный, дикий, врать не умел, так и сказал председателю. Председатель чем-то ему ответил, старик бросил в него чернильницу, не попал, но получил то ли пять, то ли семь лет за покушение на представителя власти. А в лагере его никак не могли научить работать, посадили в карцер. Он смертельно перепугался в этом темном и мрачном углу, начал кричать и биться, как птица, надоел охранникам, они его побили, и он затих. Дня через два вызвали скорую помощь и написали, что он в машине умер. Где он умер, я не знал, но написал, что если он и умер в машине, то убили его в лагере. А это уже было проблемой для лагерного начальства. И в этот раз меня не кормили дней сорок с лишним. Я уже перестал пить воду, трудно было вставать, к тому же для того, чтобы оправиться, надо было иметь три руки: одну, чтоб держаться за стенку, вторую, чтоб держать крышку молочного бидона, который мне для этого поставили, ну и третью, чтоб держать собственные причиндалы. А врач приходил каждый день, стоял надо мной, рассказывал анекдоты, я как-то на них реагировал, а однажды мне уже было трудно улыбнуться. Я помню его голос надо мной, совершенно изменившийся, сухой и жесткий: «Пропали эмоциональные реакции». И на следующий день мне уже начали делать искусственное питание, которое сперва совершенно разрывает тебя при всей своей диетичности. День на пятый привыкаешь, начинаешь даже выходить по нужде из камеры, но на одиннадцатый день они вливать питание прекратили. В голодовке самые мучительные первые пять дней, когда организм, который до этого нормально питался из желудка, перестраивается и начинает поедать собственные клетки. Здесь уже надолго их предыдущего питания не хватило, я опять слег, и через десять дней они опять начали его делать. А потом опять прекратили. А потом опять начали. И опять. Так было раз пять или шесть, и когда день на сотый меня очередной раз, окрепшего, выпустили на оправку, в мусорном баке я увидел кем-то обкусанную, залитую супом краюху хлеба. Я её схватил, спрятал под куртку, что, по-видимому, было отслежено, и на следующий раз по дороге меня уже ждала осторожно выложенная полубуханка. Это могло не быть ловушкой. В лагере мне многие сочувствовали, в том числе и из тех, кто сидел в это время в карцере. Но вероятность ловушки, конечно, была больше. Но в этом состоянии я не мог думать об этом. Взял эту буханку, почти тут же был изобличен, успел написать заявление о снятии голодовки до того, как они вынесли постановление о краже хлеба, но это уже не имело значения.
Итак, я повторяю, голодовка — это не форма самоубийства. Если ты хочешь удавиться, ты можешь сделать это и без того. Голодовка — форма борьбы в тех условиях, в которых ты оказался, и я не вполне уверен в том, что все ирландские террористы, умершие в тюрьмах без искусственного питания, так уж хотели умереть. И точно так же я не согласен ни с Мишей, ни с Колей, что голодовка никогда ни к чему не приводит. На самом деле, по крайней мере, в моем опыте, почти всегда голодовка давала какой-то полезный, нужный тебе результат, как правило, неполный. Не знаю, как это выглядит сейчас, но в советское время все «опытные» голодающие хорошо знали, что начальство любого лагеря, любой тюрьмы ежедневно подает рапортичку в управление: сколько нарушений, сколько взысканий, сколько человек в карцере или на строгом режиме, сколько человек оказывается от приема пищи. Дней через десять тобой начинает интересоваться управление, смотреть твое заявление и спрашивать начальство: «Чего он там у тебя голодает». Как правило, это ни к чему не приводит. Недели через три твое заявление начинает читать районный прокурор и чаще всего приходит к тебе. Обычно тоже без толку. Но месяца через полтора то, чего ты не мог добиться в тюрьме или лагере, в особенности, если это было вполне законно, доходит до областного прокурора. Приезжает и он. И вот тут начинаются разговоры о компромиссах. Конечно, и эти ситуации совсем не безопасны. По-видимому, никто из участвовавших в дискуссии — и у Миши Ривкина, и на фейсбуке, — не понимают, что вливаемое через шланг в тюрьме, даже составленное по всем медицинским рецептам и не разворованное искусственное питание, всё равно недостаточно для жизни. Это совсем не то питание, какое бывает в больницах у людей, почему-то неспособных к нормальному питанию. Я уже упоминал, что голодовки в лагерях и тюрьмах по поводам, которые не находятся в компетенции администрации, бывают довольно безопасны и безболезненны, но я слышал и о человеке, который жаловался на несправедливо вынесенный ему приговор. Его искусственно кормили. Администрации лагеря это не касалось. К нему в установленные сроки ездили прокуроры, и даже дело его наконец начали читать и даже со всякими проволочками пересматривать. Примерно через полгода он добился своего и был оправдан. Но из тюрьмы не вышел. Поставить на ноги его уже не смогли, и через две недели после оправдания он умер.
Тебе идут навстречу, но, конечно, не во всем. Как правило, это соглашение о взаимных уступках: ты прекращал голодовку, а какие-то из твоих требований выполняются. Даже в тех двух случаях, когда я, собственно, и не стремился ни к какому результату (это была первая моя голодовка в 1975 году в «Матросской тишине» и последняя в 1986 году в Чистопольской тюрьме), и то я считаю, что эти голодовки были очень полезны. Первую голодовку я объявил, как и Миша, просто от возмущения арестом, ещё в КПЗ, и попал довольно быстро в камеру, где было человек двадцать голодающих, что обычно для большого следственного изолятора. День на десятый стали делать искусственное питание, конечно, не ломая нос, а через рот с расширителем, да, в общем, никто из моих соседей, не желая терять зубы, особенно и не сопротивлялся, а я, еще побыв с ними дней десять, послушав их разговоры, день на двадцатый голодовку прекратил, потому что увидел, как соседей водят к следователям и даже возят на суд, не прекращая искусственного питания. Я понял, что так же будет идти и мое следствие, а я в этом положении окажусь слабее, мне труднее будет сопротивляться, и все это мало что даст. Но я понял, главное, что для меня оказалось важным в течение всех девяти лет в тюрьмах, а может быть, и во всей моей жизни: что моя жизнь находится в моих руках: я сам ею распоряжаюсь, и ни от кого не завишу. И я сам решу, что мне в ней годится. Это был замечательный и очень важный результат голодовки. Последнюю голодовку я описывал в главке «Последний день в тюрьме», которая напечатана и есть у меня где-то на сайте, поэтому не хочу пересказывать. Но, конечно, она тоже имела для меня большое значение.
Так что, если ты спокойно относишься к голодовке, относишься к ней, как к форме борьбы и твоих взаимоотношений с тюремным миром (а однажды голодовка просто спасла меня в Казанской пересылке, когда человек пятьдесят уголовников от нечего делать — уже месяц шел санитарный карантин — решили каждый исподволь дергать меня), то на самом деле все равно, применяется в тюрьме искусственное питание или нет. Это просто разные форм твоей тюремной жизни, которая в любом случае может окончиться катастрофой. Пожалуй, даже искусственное питание предпочтительнее. Оно отвратительно, как и все, что происходит в тюрьме, но дает тебе несколько более длительные по времени возможности для сопротивления, да и надо сказать, тюремная администрация к этому относится именно так. Когда условия содержания в тюрьмах стали ухудшаться, когда перед нашим освобождением и гибелью Толи Марченко и Марка Морозова у КГБ возникла практическая задача подавить, сломать всех, кого еще успеют, и на моих глазах убивали Яниса Барканса, одновременно были резко ужесточены условия голодовки. Голодовка была названа «нарушением режима содержания», за нее тут же полагался карцер. То есть, ты даже лежать на кровати уже не мог. И резко ухудшился состав искусственного питания.
Странно, конечно, получать такое подтверждение своего мнения, но уж какое есть… Итак, не только в решении о голодовке, но и во мнении о ней не может быть и не должно быть никакого единства, и если мое мнение не совпадает с мнением моих друзей, любимых и самоотверженных соседей по Чистопольской тюрьме, то, я надеюсь, это их не обидит.
Опубликовано на сайте: 22 августа 2015, 20:56
дорогой Сергей Иванович! Спасибо за интересный рассказ о ваших голодовках! многое совпадает и с моим “голодовочным” опытом. Хотя ваша сорокодневная голодовка без принудкормления была намного тяжелее. Согласен, что голодовка – не самоубийство. Согласен, что это особая форма борьбф за своё человеческое достоинство, и что заканчивается она тем или иным компромиссом, причём условия этого компомисса зависят не только от мужества и выдержки голодающего, но и от орбщей ситуации, от направления в данный момент “политического вектора” той системы, против которой борется голодающий
23 августа 2015, 9:04