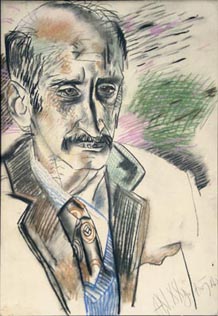
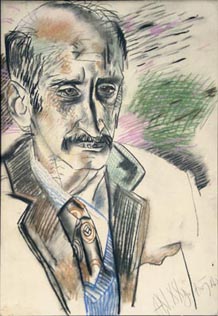
Скачать в EPUB Никита Хрущев – реформатор и освободитель.epub
Всего около тридцати лет при весьма не то, что свободном, но хотя бы относительно либеральном правлении досталось прожить народам России в ХХ веке. Это начало века — предреволюционные годы, после октябрьского манифеста, лет пять горбачевской «перестройки» в конце века, между ними лет двенадцать хрущевской «оттепели» и года два — после «перестройки». Конечно, и эти недолгие годы, когда граждане Советского Союза, а потом России и впрямь могли чувствовать себя гражданами, а не «винтиками» были далеко не европейские, далеко не идиллические. Они начались с Японской войны и бунтов 1905 года, расстрелов в том же году у Зимнего дворца, включали в себя расстрелы на Лене в 1912, в Тбилиси в 1956, в Новочеркасске в 1962, в Берлине и в Будапеште, Вильнюсе в 1990, армянский погром в Сумгаите, войны в Карабахе и Средней Азии — всех трагедий и не перечислишь. Но в сравнении с десятилетиями коммунистического террора, равного которому Европа не знала во всей своей истории, в сравнении с узаконенными тайными государственными убийствами при Ельцине и расстрелом из танков Верховного совета России, ковровой бомбардировки Грозного, взрывов домов в Москве и Волгодонске, еще более изуверской Второй чеченской войны перечисленные тридцать лет ХХ века кажутся если не идиллическими, то хотя бы понятными с точки зрения здравого смысла всего лишь эпизодами государственной катастрофы.
ХХ век начинался с внутреннего переосмысливания, переживания Россией давно устаревшего, почти архаического, а потому переставшего быть в глазах значительной части народа и почти всей интеллигенции — легитимным, представления о божественном источнике царской власти. Но для самого императора и, конечно, для миллионов людей в России никаких сомнений в своем предназначении, в роли Всевышнего в государственном устройстве не было даже в малой степени, из-за чего все попытки модернизации страны, скажем, Сергеем Витте и позже — Петром Столыпиным, осуществлялись с большим трудом.
В 1953 году после смерти Сталина у его преемников (во всяком случае у Хрущева) представление о необходимых переменах сочеталось с почти религиозной уверенностью в том, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» и, следовательно, все преобразования должны базироваться на по разному понимаемых, но абсолютных в своей нерушимости коммунистических догмах.
Для Хрущева, в силу его некоторой наивности, и малой политической образованности незыблемость коммунистических догматов (о преимуществах коллективной собственности, о моральной оправданности любых действий ведущих к победе коммунизма и тому подобных) сперва была почти абсолютной, но со временем претерпевала некоторые изменения как результата более сложного личного политического опыта и стремления к каким-то более человеческим отношениям как внутри страны, так и (со временем) в международных отношениях. Но отслеживать перемены в идеологических воззрениях Хрущева — отдельная сложная психологическая, а возможно и психиатрическая задача, поскольку многое в его сознании и действиях внутренне противоречиво и зачастую не соответствует здравому смыслу. Я буду исходить описывая действия Хрущева — любопытные, иногда имеющие всемирное значение — из позиции постороннего наблюдателя, для которого важны сами происходящие события, а не их психологические объяснения и оправдания.
Но если начать вспоминать великих русских реформаторов, чьи преобразования имели бесспорно положительное значение для России, Никиту Хрущева, как и все остальные — не завершившего свои гигантские проекты, можно поставить рядом только с Петром Великим. Только у этих российских правителей были так фантастически эпохи, когда начались их преобразования и ко времени их завершения. Только у них Россия из страны, окруженной железным занавесом,с населением понимающем окружающий мир примерно так же, как зулусы в Африке, превратилась в сравнительно открытую и соразмерную европейской цивилизации и миру державу.
Какие-то представления о том, что в Советском Союзе необходимы реформы, что надо спасать советские народы от голодного вымирания, а экономику — от неэффективного рабского труда миллионов заключенных, да, собственно, от такой же рабской участи все население страны, были уже и до смерти Сталина, и у каждого из членов Триумвирата, пришедшего к власти после его смерти: Лаврентия Берии, Георгия Маленкова и Никиты Хрущева.
Маленков уже с трибуны мавзолея Ленина в день похорон вождя сказал, что Советский Союз обладает ядерным оружием, безопасность его обеспечена и теперь надо развивать легкую промышленность — производство товаров для населения. Вскоре он же уничтожил налог с крестьян на приусадебные участки и домашний скот, сразу же облегчив положение ста миллионов жителей страны.
Лаврентий Берия в своей речи на мавзолее привычно говорил об окружающих Советский Союз врагах, но как бы ненароком перечисляя органы советской власти сперва назвал правительство, и лишь затем — партию, и к тому же упомянул о необходимости соблюдать конституционные права советских граждан, что для министра внутренних дел и руководителя уже присоединенного к нему МГБ не должно было звучать простой оговоркой. Это и заметил ему Анастас Микоян и услышал в ответ, что сказанное и не было случайностью.
Как известно, Берия от имени МВД сообщил об освобождении врачей и прекращении их дела, втайне пересмотрел «ленинградское дело» и столь же кровавое «мингрельское», а, главное, провел первую массовую амнистию заключенных, освободившую из лагерей сразу же около одного миллиона человек, правда, лишь тех, чьи сроки не превышали пяти лет. Политзаключенным таких сроков не давали и потому их амнистия не коснулась, но и уголовные преступления сталинского времени чаще всего были достаточно сомнительными: опоздание на работу, мелкая кража государственного имущества (пресловутые «пять колосков») и другие. Есть, однако, сведения о том, что Берия планировал амнистию более широкую, распространявшуюся на приговоры особого совещания «Двоек» и «троек», как неконституционных структур, но этому воспротивились его товарищи по Президиуму ЦК КПСС. К тому же он явно был озабочен переменами в национальной политике Советского Союза: настаивал на отмене практики назначения всевластных русских вторых секретарей ЦК союзных республик, на восстановлении в республиках национальных языков в качестве государственных. Успел Берия за отведенные ему месяцы проявить заинтересованность и в международной политике — наиболее известно его предложение прекратить строительство социализма в ГДР и способствовать превращению объединенной Германии в демилитаризированную нейтральную страну, подобную той, которой стала через два года Австрия. В воспоминаниях Матиаса Ракоши «Людям свойственно ошибаться»1 о его встрече весной 1953 года с Маленковым, Молотовым, Берией и Хрущевым речь идет о необходимости в Венгрии, как это вскоре будут планировать и в Советском Союзе, резко повысить жизненный уровень населения за счет сокращения вооружений, развития в первую очередь легкой промышленности, а не тяжелой, как прежде, проведении серьезных политических реформ. Говорил обо всем этом в основном Берия, а поскольку примерно те же требования были изложены и в принятом по настоянию Берии постановлении Совета Министров СССР о положении в Германской Демократической республике врученном немецкой делегации, то можно думать, что это было устойчивое представление Берии и во всем согласном с ним в эти месяцы Маленковым о характере необходимых перемен и в Советском Союзе и в странах «народной демократии».
На их фоне Хрущев, ограниченный рамками партийного аппарата, тогда был озабочен скорее вопросами собственной безопасности и расширения своих властных возможностей, то есть подготовкой ареста Берии. Уже у неостывшего трупа Сталина он сказал Булганину : «Если Берия получит госбезопасность – это будет начало нашего конца. Он возьмет этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас. И он это сделает!»2. В партийных спорах и откровенной борьбе за власть Хрущев в первый год, да, собственно, и не раз позднее проявляет себя скорее как изощренный демагог сталинской школы, чем как сторонник решительных перемен в стране. Не только первоначальную оппозицию Берии, в том числе и довольно разумным его предложениям, но всю дальнейшую борьбу с идущим к власти будущим кровавым диктатором (а не просто соперником по властным полномочиям), в чем был абсолютно и не без оснований убежден Хрущев, он ведет в том числе руками Маленкова, Молотова, Булганина, Жукова и других военных тоже смертельно боявшихся Берии. Но все они были объединены, как мы знаем и не только по его воспоминаниям, конечно, Хрущевым. Повторять описание заговора, хорошо известного по многочисленным материалам, вероятно, нет нужды, однако, характерно, что арест и расстрел Берии Хрущев считал самым важным делом в своей жизни, считал, что этим он предупредил появление нового, в чем-то иного, но, бесспорно тиранического режима в Советском Союзе. Все за этим последовавшее, все, что в России и в мире считают самым важным его делом: освобождение и реабилитация миллиона выживших в лагерях и тюрьмах политзаключенных, реабилитация не всех, но многих погибших, расстрелянных и заморенных, правда, только в поздние сталинские, но не до этого, годы, создание совсем иного климата в гигантской стране, как стало со временем очевидным, оказалось не столько борьбой за власть со своими коллегами по сталинскому политбюро, но реализацией постепенно вырисовывавшегося в сознании Хрущева, уже в 1953 году, далеко еще не додуманного до конца, но все же бесспорно вырабатываемого проекта возвращения всего Советского Союза к нормальному человеческому существованию одновременно в самых различных сферах государственной и общественной жизни.
Как известно, освобождение из лагерей, тюрем и ссылок началось не только с «бериевской амнистии» осужденных по уголовным сравнительно мелким преступлениям, но и с возврата, живых и реабилитации погибших родственников членов политбюро (теперь Президиума) ЦК КПСС, у которых статьи обвинения звучали гораздо серьезнее, чем бытовые по общей амнистии. Берия тут же в виде подарка освободил из тюрьмы привезенную из ссылки жену Вячеслава Молотова3, расстрелянный брат Лазаря Кагановича был реабилитирован, выжившие родственники — возвращены в Москву, им были выделены квартиры и денежные компенсации. То же произошло и с родственниками Анастаса Микояна. Берия же прекратил после «дела врачей» и дело еврейского антифашистского комитета, по которому мог оказаться обвиняемым и Молотов, как «американский шпион» и муж уже осужденной в связи с делом антифашистского комитета Полины Жемчужиной, и «мингрельское дело», которое было спланировано Сталиным, чтобы убрать самого Берию, но тот умело «перевел стрелки» на других мингрелов, часть которых была арестована, часть расстреляна. 11 марта Берия направил Маленкову и Хрущеву записку о разгроме Сталиным чекистских кадров, необходимости освобождения их из лагерей и тюрем и использования в дальнейшей работе. Впрочем, речь шла только о «своих». Абакумов и его сторонники в этот список не входили.
После расстрела Берии Маленков, как председатель Совета министров СССР продолжает реформы — после смерти Сталина было решено, что именно этот пост, который занимал в свое время Ленин, станет основным в управлении страной и предсовмина будет теперь руководить не только советом министров, но и работой Президиума ЦК КПСС. Но все же несколько месяцев действует и другая договоренность триумвирата о коллективном руководстве (никто не чувствует себя равным Сталину). На следующий же день после похорон вождя Маленков устраивает выговор редактору «Правды» Д.П. Шепилову и двум секретарям ЦК по идеологии Николаю Суслову и П.Н. Поспелову за то, что его речь напечатана крупным шрифтом, а Молотова и Берии более мелким и, что не все члены Президиума ЦК упомянуты, а что его фотография с Мао Цзэдуном и Сталиным — это известный монтаж и ее вообще не следовало печатать, то есть отстаивает равноправие всех членов Президиума. При этом Маленков продолжает политику смягчения режима в Советском Союзе в самых массовых проявлениях его бесчеловечной сути.
Как следствие бериевской амнистии 27 марта 1953 года уже ко второй половине 1953 года было пересмотрено уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. Была отменена уголовная ответственность:
за прогул и уход с работы,
за невыработку трудодней колхозниками,
за уклонение от мобилизации на сельскохозяйственные работы,
за самовольный проезд в товарных вагонах,
за нарушение паспортного режима (прописки),
за мелкое хищение социалистической собственности («колоски»),
за изготовление и продажу самогона,
за мелкое хулиганство,
за обман покупателей (до этого за обмеривание и обвешивание покупателей продавцам давали 5-7 лет).
Правда закон о крепостном праве в промышленности от 19 октября 1940 года, по которому рабочие и инженеры не только были прикреплены к своему заводу и не могли переменить место работы, но и любое министерство по собственному желанию и под угрозой уголовного наказания могло даже переселять рабочих и инженеров из города в город, с одних предприятий на другие, не заботясь о предоставлении жилья, будет отменен уже Хрущевым только в 1956 году.
Возраст уголовной ответственности для детей был повышен с 14 лет до 16, в случае тяжких преступлений с 12 до 14 лет.
Отменена уголовная ответственность членов семьи изменников Родины, в связи с чем тоже сотни тысяч людей были освобождены из лагерей и возвращены из ссылок. Поскольку «пересмотр уголовного законодательства» официально имел обратную силу и включал так же снижение максимального срока заключения с 25 лет до 15-ти, были освобождены из тюрем и лагерей многие, (но далеко не все) уже отсидевшие пятнадцать лет. Были возвращены гражданские права и сотням тысяч спецпоселенцев — остаткам десятка выселенных при Сталине народов — чеченцев, ингушей, калмыков, крымских татар, кабардинцев и разнообразных «инородцев» на территории России: греков, поляков, финнов, немцев а так же немногих чудом выживших после коллективизации потомков русских «кулаков» и после «расказачивания» – кубанских и донских казаков. В этот же список входят не расстрелянные, а всего лишь высланные латыши, литовцы, эстонцы, а так же украинцы из западных ее районов. Отменены приговоры и всем уже отправленным и все еще отправляемым в ссылку в 1948 году «повторникам», то есть уже осужденным по любым статьям УК, выжившим в лагерях, освободившимся и потом заново как правило репрессированным по тем же статьям и за тоже мнимое преступление. Как видно по опубликованным фондом «Демократия» документам о реабилитации список подписавших решения пока еще о смягчении участи сотен тысяч советских граждан очень недолго возглавляет Маленков, но быстро уступает первое место Хрущеву, который и рассылает на подпись коллегам все эти документы и списки. Сперва, по-видимому, активность Хрущева вызывает настороженность у коллег, на одном из документов Ворошилов вместо «согласен» пишет «не понимаю», но единодушие, необходимое теперь при решениях президиума быстро восстанавливается.
Тем более, что все эти документы готовят и подписывают со знанием дела Секретарь ЦК Михаил Суслов, участвовавший в выселении кабардинцев, а потом — литовцев, генерал Иван Серов (сам руководивший выселением и подавлением сопротивления целых народов, но сейчас бесспорный ставленник Хрущева), так же как и генеральный прокурор Роман Руденко, и потому можно думать, что первоначально компания Хрущева по осторожному смягчению лагерного режима во всем Советском Союзе (иначе, чем концлагерем Советский Союз не назовешь – «большая зона» по популярному тогда определению) имеет для него в первую очередь характер внутриполитической борьбы в Кремле. В отличие от Микояна и Кагановича, сделавших, что могли, для освобождения из лагерей уцелевших родственников и реабилитации погибших, Хрущев ничего не делает для освобождения из лагеря вдовы своего старшего сына Леонида — она будет реабилитирована со всеми остальными только в 1956 году.
В отличие от маршала Жукова, который сразу же стал добиваться освобождения выживших и реабилитации расстрелянных после войны Сталиным генералов. Хрущев, получив из лагеря письмо о преступлениях Берии от Алексея Снегова (человека, которого он хорошо знал до войны по партийной работе и даже дружил с ним), вызвал его из лагеря, на суде над Берией прозвучали его показания, после чего Руденко — генеральный прокурор, поставленный Хрущевым и в прошлом тоже друг Снегова, лишь пригласил его к себе в кабинет, взял на сохранение его записки и бесспорно с санкции Хрущева вернул назад, правда, не в далекий лагерь, а во Владимирскую тюрьму. Лишь через год с небольшим, когда Хрущев начал свое расследование преступлений Сталина (в дополнение к комиссии Поспелова) Снегов был освобожден и стал основным «экспертом» микояновских комиссий созданных для освобождения и реабилитации политзаключенных 30 января 1956 года перед началом ХХ съезда.
Эта бесчеловечность Хрущева тем не менее стоит в одном ряду с тем, что для своего сына ракетчика Сергея он и не подумал создавать специальный ракетный институт, какой был организован Берией для своего сына. Хрущев сам не пользовался никакими льготами сверх самых минимальных ему положенных и они ни разу не коснулись никого из его родных.
В этом, как и в ригоризме Сталина, был и сохранявшийся отзвук «партмаксимума» двадцатых годов и бесспорное проявление мощного инстинкта единоличной власти, который подавлял почти все человеческие чувства и интересы. И, конечно, не случайно, из всех послевоенных дел сфабрикованных Сталиным, Хрущев выбирает для своего активного участия в его пересмотре – “ленинградское” дело, которое дает ему очень важные козыри в политическом противостоянии с пока еще первым человеком в стране Георгием Маленковым.
2-7 июля 1953 года по воспоминаниям Константина Симонова на специальном пленуме УК КПСС по делу Берии выступают и Маленков и Хрущев, но если Маленков говорит общие слова о том, что спецслужбы стали над партией, то Хрущев уже очень решительно говорит о сфабрикованных делах как в последние годы, так и в 30-е. Но пока основные указания еще дает Маленков, говорит о большой перестройке, о том, чтобы больше не было злоупотреблений властью, люди не зависели от анонимок, а партия не должна зависеть от характеристик, даваемых спецслужбами вновь назначаемым кадрам.
И тут в этом соперничестве с Маленковым за реформирование спецслужб и руководство ими Хрущев делает решительный ход — 7 мая 1954 года сам едет в Ленинград и выступает на собрании горкома и обкома партии с речью о реабилитации осужденных по этому делу (многих — посмертно), взваливая всю вину на уже расстрелянного Берию и ожидающего суда и расстрела Абакумова. Хрущев еще не называет одного из главных инициаторов этого дела — Маленкова, для которого, как и для Берии, это была борьба со всеми ленинградскими ставленниками внезапно скоропостижно скончавшегося Жданова. Тем не менее Хрущев раздраженно советует ленинградским властям убрать большой портрет Маленкова со стадиона и заменить портретом Ленина. При всем значении признания (но не публичного) преступным этого первого почти открытого сталинского политического процесса, пока еще растущая активность Хрущева в изменении политического режима в стране, чем сперва были заняты только Берия и Маленков, выглядит всего лишь политической борьбой с Маленковым и рядом других членов Президиума ЦК очень опасливо относящимся к возвращению политзаключенных и их реабилитации. Казалось бы, Хрущев еще очень осторожен.
Но, по-видимому, уже тогда им найдена формула – «мы все виновны в том, что происходило, но в разной степени». Вероятно, и впрямь прав историк спецслужб Никита Петров, который считает, что Хрущеву не было нужды чистить архивы, чтобы скрыть следы собственных преступлений. В годы ежовских расстрелов он не был так близок к Сталину, чтобы его подпись на расстрельных списках имела значение (хотя в московских горкоме и обкоме «чистки» не без ведома и участия Хрущева, конечно, шли), на Украину он был послан уже после того, как прошли наиболее массовые репрессии.
Так или иначе, но эта «разная степень участия в преступлениях» воспринимается Хрущевым, как бесспорный козырь в борьбе за единоличную власть в стране. Собственно, никакой другой он, воспитанный Сталиным, и не может себе представить. И все же это для него не единственная цель. Точнее — она связана с другими, для страны, конечно, гораздо более важными.
И следующее выступление на тему реабилитации невинно осужденных и по выбранному для этого месту и по содержанию уже звучит совсем иначе, чем ленинградское. На Всесоюзном совещании работников государственной безопасности он говорит долго, на первый взгляд невнятно, но именно 7 июня 1954 годы были произнесены ключевые слова:
– Видимо, придется многих еще освобождать.
Был упомянут и возвращенный в лагерь Алексей Снегов, сперва показаниями, а теперь записками которого, так успешно воспользовались Руденко и Хрущев.
Одновременно было сказано, что нужно «очищать» ряды чекистов. Хрущев прибавил к этому, что нужно избавляться от агентуры, которая фабрикует лживые обвинения, а в завершение сказал, что КГБ должен постоянно находиться под контролем партии и прокуратуры, потому что:
– После смерти Дзержинского у нас все время было неблагополучно с руководством в органах госбезопасности.
И все это не осталось только словами. Расстрелян был не только Берия, но и бывший министр Госбезопасности В.С. Абакумов, начальник 3-го управления МВД Гоглидзе, 1-й заместитель министра внутренних дел Б.З. Кабулов, а так же В.Н. Меркулов, Н.Д. Рюмин, Рухадзе, два замминистра И.И. Масленников и Л.Ф. Цанава не были осуждены — первый из них сам застрелился, второй умер в больнице Бутырской тюрьмы, находясь под следствием. Всего же за 1954-57 годы к уголовной ответственности было привлечено 1342 офицера КГБ, а 2370, как пишет историк О.Н. Хлобустов, понесли наказание в партийном и административном порядке. То есть на самом деле Хрущев провел достаточно основательную чистку КГБ, но из-за того, что происходила она скрытно, материалы о ней не печатались в Советском Союзе создавалось впечатление, что никто не понес наказания. Впрочем, это и впрямь никак не соответствовало по масштабу многочисленных Нюрнбергских трибуналов в Германии.
И все что происходило в это время и позже ясно показало, что Хрущев произвел решительную перемену в структуре политического строя в Советском Союзе, отказался в отличие от Сталина и Берии от карательных органов, как основной опоры по прежнему тоталитарной власти в стране. Он не заменил, как Сталин, одного, уже негодного палача (Берию) своим, удобным, полезным, и сходным по функциям (Серовым), за чем должно было последовать наряду с некоторой реорганизацией карательного аппарата его не просто обновление, но очередное усиление, а напротив — резко, до минимального за всю историю Советского Союза и России с 1917 года, сократил, ослабил как мог и органы Государственной безопасности и Министерство внутренних дел. Вместе с расстрелом Берии Хрущев уничтожил (или свел до минимума) и всю руководимую им вертикаль власти в Советском Союзе, ставшую основной опорой для Сталина. Но уже по записям заседаний Президиума ЦК начальника общего отдела В.Н. Малина 8 декабря 1954 года на заседании принимавшем решение о создании Комитета государственной безопасности, выделяя соответствующие подразделения из Министерства внутренних дел Хрущев несмотря на недовольство Кагановича и Молотова добивается основного — назначения своего протеже генерала Ивана Серова на пост председателя. Но теперь, в результате главной реформы Хрущева, в стране оставались только две вертикали — государственный аппарат во главе с Маленковым и партийный, руководимый Хрущевым (советы разного уровня, формально — высший орган власти в стране, пока еще оставались вполне бесправны и во внимание не принимались, хотя Маленков и пытался их упоминать, а Хрущев пришел к их признанию только в своих последних нереализованных планах). Это был самый важный не афишируемый, но реальный переворот в советской политической структуре, который предопределил многие первоначальные успехи и все последующие поражения Хрущева. Именно в этом и была единственная надежда на подлинные, а не формальные перемены в Советском Союзе.
То, что руководителем КГБ Хрущев после расстрела Берии и вопреки мнению Молотова и других, смог поставить своего человека — Серова, для остальных кремлевских лидеров было неприятно, но привычно. Но зато аресты наиболее известных убийц и палачей — Рюмина, Майрановского, Влодзимирского, Судоплатова, Эйтингона и других, многочисленные отставки и увольнения, разжалования, лишение пенсий — вообще вся проведенная Серовым чистка «органов» уже выглядела странной в сфере советских традиций. Хрущев не выбирал, кроме Серова, в карательных органах людей преданных лично ему и совершенно игнорировал при увольнениях и арестах не только ссылки на полученные сверху от начальства приказания, но даже и на волю партии или «государственные интересы». В этих арестах многими даже просматривалось официальное признание НКВД — преступной организацией, как на Нюрнбергском процессе в определении деятельности СС, СД и гестапо. Но, во-первых, сходство с Нюрнбергом не распространялось на руководство нацистской партии (то есть в СССР — на КПСС), а во-вторых, все же была сделана попытка еще очень многие преступления не просто объяснить, но прямо скрыть или оправдать. Тем не менее демонстративный отказ от советской традиции управления страной с руководящей помощью спецслужб был очень заметен. Сталин, сменяя одно поколение палачей другим, тоже мало доверял уверениям в преданности лично ему и коммунистическим идеям тех, кто намечен был им для заклания, но каждое новое поколение спецслужб он делал еще более мощным, чем предыдущее. А Хрущев впервые в советской истории стал резко сокращать численность и сводить до минимума значение правоохранительных органов. 3200 сотрудников унаследованного от Берии КГБ были уволены тут же, всего из КГБ с 1953 по 1956 год было уволено 16 тысяч сотрудников, всего же с 1954 по 1964 год — 116 тысяч, из которых 46 тысяч были уволены, остальные отправлены в отставку по возрасту, сорок генералов лишены званий, ни одно новое генеральское звание почти за все годы правления (последние) Хрущева не было им утверждено, сменивший Серова в 1958 году Шелепин вообще не надел погоны и остался штатским председателем КГБ и, как до него Серов, а после — Семичастный, всего лишь кандидатом в члены ЦК КПСС. Кроме пограничников и военной контрразведки, поскольку она составная часть армии, всех остальных сотрудников КГБ, как и весь комитет, по воспоминаниям Семичастного, Хрущев все последние годы пытался сделать штатской, а не военной организацией. В выделенном из Министерства внутренних дел «комитете» тут же осталось из 3300 районных отделений только 734, в большинстве городских осталось по два человека, были упразднены «спецотделы» в большинстве институтов и предприятий. Уже в марте 1954 года в контрразведке, то есть в службе надзора за советскими гражданами, из 25375 сотрудников осталось 14263, управление по надзору за интеллигенцией (четвертое) было уничтожено и восстановил его (назвав пятым) только Андропов. Сотрудники КГБ потеряли надбавки за секретность, им перестали строить новые жилые дома и сократили пенсии. Да и сам «комитет» потерял свой высокий государственный статус и стал всего лишь одним из комитетов Совета Министров СССР. Впрочем, это было некоторой иллюзией — контроль за КГБ Хрущев оставил за собой, Маленков жаловался, что получает из Лубянки далеко не все документы. Одновременно было сокращено, но в меньшей степени, и Главное разведывательное управление Министерства Обороны. Немалое значение имело и то, что пробивавшаяся в советское общество уже и до ХХ съезда случайная информация о героических чекистах все в большей степени формировала представление о КГБ, как о преступной организации.
То же произошло и с Министерством Внутренних дел. Еще в 1953 году, то есть до раздела МВД и КГБ, Хрущев вполне внятно сказал:
Я в первый раз увидел жандарма, когда мне было уже, наверное, двадцать четыре года. На рудниках не было жандарма. У нас был один казак-полицейский, который ходил и пьянствовал. В волости никого, кроме одного урядника, не было. Теперь у нас в каждом районе начальник МВД, у него большой аппарат, оперуполномоченные. Начальник МВД получает самую высокую ставку, больше, чем секретарь райкома партии.
Позже мы увидим в этой реплике любопытное совпадение с письмом «воронежских анонимов», через год полученное в ЦК КПСС и основное отличие от реформ Лаврентия Берии.
Хрущевым, что не менее важно, была уничтожена созданная при Сталине «массовая сеть агентуры, пронизывающая все население СССР» (гордое выступление Меркулова на совещании руководящего оперативного состава МГБ СССР, 1943 год). К 1952 году у любого участкового в МВД должен был быть свой стукач на каждой лестничной площадке каждого жилого дома.
8 февраля 1954 года на заседании Президиума ЦК КПСС было констатировано, что структура МВД слишком громоздка. Был сокращен численный состав МВД, вскоре его новым министром стал уже не генерал Круглов, а Николай Дудоров по профессии строитель, не имевший до этого никакого отношения к правоохранительным органам, правда как всякий строитель имевший прямое отношение к лагерям. Кроме общего сокращения численности МВД, сто тысяч его сотрудников были заменены более молодыми и более образованными (до этого около половины милиционеров были просто неграмотны, 40% имели начальное образование). В газете «Правда» появилась статья призывавшая советский народ отказаться от привычного в стране занятия – анонимных доносов, а спецслужбы от их использования. И в КГБ и в МВД произошло резкое сокращение числа «доверенных лиц», то есть агентуры внутри страны и просто запуганных спецслужбами бесчисленных безропотных стукачей.
Продолжая процесс сокращения числа заключенных в декабре 1956 года был принят указ Верховного Совета «Об ответственности за мелкое хулиганство», который отменял уголовную ответственность за нарушения общественного порядка и мелкие кражи. К тому же органы внутренних дел получили двойное подчинение: не только собственное начальство, но и исполкомы Советов всех уровней — при них были созданы общественные комиссии «по социалистической законности и охране правопорядка» – легитимный, почти общественный в советских условиях надзорный орган за действиями милиции. 13 января 1960 года общесоюзное Министерство внутренних дел вообще было упразднено, остались лишь республиканские министерства охраны общественного порядка. Соответственно лет на семь (до восстановления при Брежневе) исчезло и всесоюзное Главное управления исправительно-трудовых учреждений (ГУЛАГ) окончательно раздробленное теперь по республиканским министерствам. Большого практического значения это не имело, но, скажем, в союзных республиках заключенные в эти годы оставались ближе к дому, их даже практически нельзя было заслать куда-то очень далеко, не считая граждан РСФСР, конечно. Но в ведение министерства юстиции, как это ненадолго сделал в 1953 году Берия, Хрущев разделяя МВД ГУЛАГ не передал.
Что касается реабилитаций, которые приобретали не только гуманитарное, но и политическое значение, то вскоре были признаны незаконными все решения «двоек», «троек» и «особых совещаний», что, кажется, тоже собирался сделать, но не смог Берия, как не соответствующие судебной процедуре. И осужденных таким образом (без суда и даже без военного трибунала) было больше двух с половиной миллионов. Из них сразу же расстреляны были в тридцатые и сороковые годы восемьсот тысяч человек, остальные за редким исключением погибли в лагерях. Немногие выжившие были освобождены. Судебные приговоры (и приговоры военных трибуналов) по политическим статьям — в общей сложности около четырех с половиной миллионов — так же пересматривались по ускоренной процедуре специальными, так называемыми «микояновскими» комиссиями. Большинство лагерей по всей стране просто закрывались, охрана увольнялась, колючая проволока сматывалась. Выжило в лагерях процентов десять политзаключенных. Но справки о числе осужденных, расстрелянных, погибших в лагерях, то есть о важнейших преступлениях в годы советской власти, естественно, были составлены и представлены руководству, но не печатались.
Хотя и звучали широковещательные заявления о восстановлении попранных законности и справедливости, важнейшей задачей для руководства оставалось сохранение легитимности обагренной кровью с пят до макушки советской власти, а потому реабилитированы были далеко не все даже самые известные из погибших. Скажем, Бухарин, Каменев, Рыков, Зиновьев и другие осужденные на знаменитых процессах 30-х годов не были реабилитированы якобы потому, что были осуждены не «особыми совещаниями» и «тройками», а открытыми (в советском понимании) судами и признали свою вину. Но точно так же были осуждены и шедшие по «ленинградскому» делу Кузнецов, Вознесенский и другие, но были реабилитированы. А получивший не расстрел, а всего двадцать пять лет лагерей первый секретарь ЦК Карело-Финской республики Купреянов, осужденный по этому же делу, выжил в лагере и был освобожден. Реальной причиной отказа в реабилитации Бухарина и других, возможно, были просьбы Пальмиро Тольятти и Мориса Тореза: эти вожди итальянской и французской компартий хотя и не присутствовали на судах, но «гневно осуждали» расстрелянных, а теперь вполне оправданно полагали, что не смогут объяснить свое поведение той части коммунистов в своих странах, кто искренне верил в идеалы нового мира. Не менее важными оказались и просьбы коммунистических лидеров стран «народной демократии», где по обвинениям в «троцкизме» и различных «уклонах» были расстреляны и осуждены десятки тысяч человек. Еще более странной выглядела история с убийством Льва Троцкого. Реабилитирован он, конечно, не был, да и не мог быть, идеологическая борьба с «троцкизмом» и внутри Советского Союза и за рубежом (с остатками «Четвертого интернационала») продолжалась, отсидевший двадцать лет в мексиканской тюрьме его убийца Рамон Меркадер приехал в Советский Союз и получил (правда, тайно) Золотую звезду героя, но его прямые руководители и организаторы убийства — Судоплатов и Эйтингон прочно сидели (правда, не за это) во Владимирской тюрьме, а немногие выжившие троцкисты были реабилитированы и освобождены из лагерей и ссылок.
Вообще, сказать, что Хрущев отказался от политического террора тоже нельзя было. По его прямому указанию были убиты в Мюнхене Богданом Сташинским лидеры украинского национального движения Лев Ребет, за ним — Степан Бандера, а еще до войны Евгений Коновалец.
Таким образом назвать Хрущева последовательным разгребателем унаследованной от Сталина грязи, разоблачителем всех его (хотя бы — его) преступлений и лидером решительно отказавшимся от их продолжения, довольно трудно.
Еще более важным, чем внешнеполитические проблемы реабилитации коммунистических лидеров, более серьезным, чем недоумение и обида вдовы и сына Бухарина (тоже выживших в лагере и ссылке), было ясное понимание половинчатости, незавершенности начатого Хрущевым процесса освобождения и реабилитации бесчисленных жертв, декларируемой готовности покончить с чудовищными преступлениями сталинского времени не только сотнями тысяч людей выживших и освобожденных из лагерей, тюрем и ссылок, но и все растущим числом, в первую очередь молодых советских людей, которые были явно не удовлетворены восстановлением «советской справедливости».
В до этого смертельно запуганной стране появлялось общественное мнение. И ему никак нельзя было объяснить почему не реабилитированы участники Кронштадтского восстания и тамбовские крестьяне, выдвигавшие даже не монархические, а вполне советские, но отрицавшие террор, лозунги, почему приходится замалчивать массовые расстрелы русской интеллигенции в начале двадцатых и в конце тридцатых годов, почти поголовное уничтожение иерархов русской православной церкви, да и всех других религий вплоть до буддизма и многое, многое другое.
Разоблачение сталинских преступлений, сделанные Хрущевым на ХХ и XXII съездах КПСС не удовлетворили ни ту половину России, которая охраняла и сажала (по формуле Ахматовой) заключенных, ни тех кто был или воспринимал себя потенциальными жертвами репрессий.
Но несмотря на все это, несмотря на незавершенность реформ, несмотря на то, что Хрущеву не удалось сделать их необратимыми, именно эти три неразделимых в своем значении действия:
– уничтожение большинства лагерей, освобождение двух миллионов выживших заключенных и реабилитация десятка миллионов погибших;
– резкое смягчение полицейского режима в стране;
– снижение до беспрецедентного уровня за последние сто лет в истории России влияния спецслужб на политическую жизнь страны, прекращение их использования, как основного механизма управления в России.
стали в своем нераздельном единстве и основой общественной и культурной оттепели хрущевского времени и тем самым важным делом, которое удалось в своей жизни Хрущеву.
На самом деле трудно сказать, как далеко зашел бы в своих реформах Берия, действительно ли (хотя на это очень похоже — не зря же все его «товарищи» так смертельно его боялись) он готовил для народов Советского Союза новую кровавую диктатуру, как не раз писал и говорил Хрущев. Существенным и известным некоторым “товарищам” было и то, что по страстям своим Берия был бесспорным садистом, что не могло бы не сказаться на характере его правления.
Но одно вполне очевидно, Лаврентий Берия продолжал бы использовать полностью подчиненные теперь ему лично спецслужбы, конечно, к тому же опять усиленные в качестве основного рычага управления страной. При нем не наступило бы то единственное время в истории России ХХ — начала XXI века, когда спецслужбы и милиция практически не оказывали влияния на внешне- и внутриполитические решения определяющие жизнь страны. К чему это приводит народы Советского Союза и России с ужасом убеждались и до и после правления Хрущева. С другой стороны не только правление самого Хрущева, но и вся бюрократическая система советского руководства заменившая примитивной и ложной идеологией человеческий здравый смысл и личную заинтересованность не могла держаться достаточно долго без смертельного страха всех ее «винтиков» и «офицеров» (по сталинской терминологии). Таким образом можно считать, что именно Хрущев еще до ХХ съезда уже в 1953-54 годах нанес сокрушительный удар коммунистической империи.
Хрущев бесспорно занял бы одно из самых памятных мест в русской истории даже если бы его реформы ограничились только сферой освобождения заключенных и сокращения спецслужб, но он, по-видимому, уже в 1953-54 году планировал гораздо более широкий комплексный план реформирования Советского Союза.
Первой задачей после упразднения роли спецслужб, как основной опоры советского режима, стала необходимость реформирования сельского хозяйства (с которой Хрущев до конца так и не сможет справиться), а для начала — дать как можно скорее столь необходимый хлеб голодающей стране. Как мы помним, этим же был озабочен и Маленков и первые же его распоряжения значительно облегчали положение русских крестьян, а, следовательно, и продуктивность сельского хозяйства.
Главным был хлеб, точнее — почти голод царивший в стране, усугубленный плохим урожаем 1953 года.
«Резервы производства зерна были почти исчерпаны…
Выступая перед Верховным Советом в июле 1953 года, Маленков предложил усилить материальное стимулирование крестьян. 25 августа Маленков в Верховном Совете заявил о необходимости повысить уровень жизни не только крестьян, но и страны в целом. Было решено подключить колхозы к единой электрической системе, увеличить производство тракторов, продажу колхозам строительных материалов, — пишет Зубкова, — уже в марте 1953 г. Министерством финансов для Маленкова был подготовлен проект докладной записки о налоговой политике в деревне».4
В результате первых же действий Маленкова, первоначально всецело поддержанных Хрущевым, уже с 1 июня 1953 года начались реформы: сумма сельскохозяйственного налога снизилась с 9,5 млрд. рублей до 4,1 млрд. в 1954 г. (и это вместо попытки в 1952 году при Сталине довести его до 40 млрд. рублей — для войны нужны были деньги и разграбление, вплоть до уничтожения, деревни, было, как и раньше, их основным источником). Были снижены налоги на домашние хозяйства сельских жителей (в 1958 г. Хрущев их совсем отменит). Резко, хотя и в несколько приемов, в годы правления Хрущева были увеличены закупочные цены: на зерно в конечном итоге в 7,4 раза, на мясо в 5,8 раза в сравнении с 1952 годом.
На первый взгляд реформы сельского хозяйства, начатые Маленковым, вполне разумны, последовательны и, вероятно, в конечном итоге были бы, более успешны, чем те, что лихорадочно и суетливо начал Хрущев. Это в частности видно из анализа, проведенного Сергеем Мирониным5. Напомню лишь некоторые его цифры и размышления. Неурожай 1952 года вплотную приблизил Советский Союз к голоду 1946-47 годов. Липовые цифры успехов сельского хозяйства были основаны на «биологическом» подсчете урожая. Голодающая деревня была к тому же почти столь же демографически опустевшей, как после войны — молодых мужчин практически не было. Хотя рабский труд в колхозах был закреплен отсутствием у крестьян паспортов, то есть невозможностью куда-то уехать «за четыре года — с 1949 по 1953 — количество трудоспособных колхозников … уменьшилось на 3.3 млн. человек». Самым распространенным, добавлю от себя, способом бегства из колхоза была служба в армии. Поскольку для полноценного набора в более чем пятимиллионную армию было необходимо, чтобы от «призыва» молодые люди не прятались в еще многочисленных русских лесах, после завершения пятилетнего срока службы увольнявшимся солдатам, наконец, выдавали полноценные гражданские паспорта. Это и была главная приманка. Но никто из солдат не возвращался в деревню.
И Хрущев вынул с полки ЦК КПСС (из проектов еще 1940 года) план освоения целины в 1954 году сразу став центральной фигурой в области реформирования сельского хозяйства. Поскольку это была еще сталинская, просто не успевшая осуществиться, идея, никто в том числе и Маленков в первом «коллективном» руководстве не смог ее задержать. Единственный, кто пытался сопротивляться, если не самому освоению, то хотя бы его масштабам и темпам, был более твердый и уверенный в себе чем Маленков Вячеслав Молотов, но и ему это не удалось. В стремлении обеспечить страну хлебом, как и в процессе реабилитации и освобождения политзаключенных, а позднее в политике развенчании «культа личности» Сталина, Хрущев, осуществляя, конечно, очень внутренне важную и лично близкую ему задачу, одновременно, как всегда, выбрал путь ее решения резко усиливающий его собственные позиции в советском руководстве и в глазах всей страны.
Решения, инициированные и принятые правительством Маленкова, по-видимому, в долговременной перспективе дали бы не меньше, чем освоение целинных земель. Искалеченные центральные области России пусть и с не особенно благодатными и урожайными землями постепенно возрождаясь, да еще и с применением современных агротехник и химических удобрений так же как подобные регионы Западной Европы постепенно, все в большей степени кормили бы население страны. Вместо этого они были окончательно, даже в большей степени, чем при Сталине, разорены (об этом с такой скорбью пишет Твардовский) вся имевшаяся в стране техника, средства и стремившиеся хоть как-то улучшить свою жизнь молодые люди были брошены на целинные земли, где даже в урожайные годы приходилось отчитываться о собранных миллионах пудов хлеба почти с лукавостью сталинской статистики: реально выращенный урожай из-за полного отсутствия дорог, элеваторов, помещений для сушки зерна (и денег на их строительства) почти наполовину пропадал, гнил, был рассыпан с некрытых машин на бесчисленных ухабах.
И тем не менее хотя бы уцелевшая часть хлеба к урожаю 1956 года была получена быстрее, чем по менее революционным предложениям Маленкова, да и сам председатель Совета министров заметно был оттеснен на второй план. Если сперва по предложению переданному Булганиным (тогда министром обороны) Маленкову Хрущев стал из просто секретарей ЦК — первым секретарем ЦК КПСС, то уже на пленуме 1957 года Маленков по вполне сталинско-демагогическим обвинениям Хрущева (за чрезмерное внимание к развитию легкой промышленности в ущерб строительству предприятий тяжелой промышленности, то есть как раз за то, что в конце концов станет программой самого Хрущева) на посту председателя Совета Министров заменен послушным безропотным и не имеющим никаких государственных проектов Булганиным и становится министром электростанций.
Сын Хрущева — Сергей Никитич во всем, в чем может, оправдывающий отца, однажды тем не менее замечает, что в реформах Маленков, возможно пошел бы дальше отца, «но без Хрущева». Как смог бы Маленков справится, сделать более мобильной и заинтересованной в результатах своей работы государственную планово-бюрократическую советскую вертикаль управления хозяйством — мы не знаем. Хрущеву, упразднявшему министерства и создававшему совнархозы, чтобы хоть как-то приблизить управление к производству, сделать его в какой-то степени заинтересованным в результатах работы, это не удалось.
Но в любом случае из тех двух структур — опор власти чудовищном сталинском наследстве, которые разделили между собой Хрущев и Маленков, Хрущеву досталась, и он ее значительно укрепил, бесспорно худшая, заведомо обрекавшая на неудачу почти все его реформы, чего он к тому же много лет не мог понять. Государственно-хозяйственный аппарат, во главе которого стал, возвращаясь к традиции Ленина, Маленков, хотя бы был профессиональным в своей основе. Партийный аппарат, который по примеру Сталина возглавил Хрущев, ни на что, кроме партийной демагогии способен не был, был совершенно безграмотен и никаких целей, кроме сохранения своей власти не имел. Оба эти аппарата были в какой-то степени эффективны пока существовал, как мы уже говорили, третий — тут же созданный Лениным и ставший наиболее властным при Сталине — аппарат государственного террора — ЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ. Спецслужбы мутировали, но роль их оставалась прежней: чиновники и партийного и государственного аппарата знали, что за малейшее непослушание их ждет расстрел, для остального населения страны была бесспорная вероятность более длительной смерти: в лагере или от голода. Без этой третьей и основной опоры Ленина и Сталина ни бюрократический, ни партийный аппарат мало-мальски эффективно и принося пользу стране работать, конечно, не могли (об этом убедительно, анализируя книги Хаека, потом напишет Григорий Померанц).
В 1953-54 годах еще почти сохраняя верность советским святкам Хрущев и Маленков могли вернуться к столь же зловещей как и Ленин фигуре Якова Свердлова, который все же был главой первого, эфемерного уже тогда, но все же якобы избираемого якобы парламента – Всероссийского центрального исполнительного комитета советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК).
Если бы Маленкову или Хрущеву пришло в голову (и у них оказалась бы такая возможность) стать во главе Верховного Совета СССР и постепенно воссоздавать (точнее, конечно, создавать) реальный властный механизм, основанный на избирательной системе и представительстве всего населения страны, то им, во-первых, не нужно было бы создавать полуфантастических легенд (вроде «возвращения к ленинским нормам партийной жизни», революционной романтики и героического единства советского народа в Великой отечественной войне) для оправдания легитимности новой власти, а с другой стороны был бы создан взамен уничтоженного механизма террора реально действующий аппарат прямой связи и заинтересованности государственного управления с результатами не только реформ, но и всего функционирования государства. Но на это ни Маленков, почему я и не думаю, что его реформы — возможно, менее экстравагантные и более цивилизованные — благодаря лучшему образованию и его и его жены — директора Энергетического института, что при авторитарном правлении имеет значение — оказались бы более удачными, ни Хрущев, воспитанные Сталиным, тогда просто не были способны. Лишь в конце правления Хрущева ему приходят в голову подобные политические преобразования, но у него уже нет ни времени, ни возможности их реализовать.
Впрочем, в самом начале политической борьбе за власть был эпизод, позволяющий задуматься об этом. При Сталине оклады секретарей, скажем, райкомов партии и председателей райисполкомов формально были равны, что делало бы равно заинтересованными чиновников для карьеры в этих структурах. Но партийная номенклатура ежемесячно получала конверты с суммами во много раз превосходящими официальный заработок, а сотрудники исполкомов — нет, что соответствовало и объему реальной власти у тех и других. Маленков отменил выдачу конвертов, упразднил спецраспределители, спецсанатории и таким образом уровнял в материальном обеспечении партийных и советских чиновников, понизив уровень одних и автоматически повысив — других. Есть даже неясные упоминания о том, что и комсомол в это время едва не подвергся основательной реконструкции и чуть ли не роспуску. Так Шелепин на XXIII съезде заявил:
– Он (Маленков — С.Г.) на протяжении ряда лет мешал занять комсомолу достойное место в стране.
Но для борьбы с партийным аппаратом, да еще возглавляемым Хрущевым, Маленков был слишком слабым лидером.
Хрущев стал «первым секретарем» ЦК КПСС. Тут же, чтобы быть уверенным в единогласной поддержке на Пленумах любого своего предложения из партийной кассы выплатил всем аппаратчикам с избытком те суммы, которые они потеряли из-за Маленкова. В комсомол в конце 1953 года был произведен экстраординарный набор и значение его восстановилось, если даже не усилилось. Началось и массированные замены сторонниками Хрущева прежних секретарей обкомов КПСС и руководителей компартий союзных республик, то есть членов ЦК КПСС.
Таким образом Хрущев не только усилил свои позиции в партийном руководстве, но вновь вернул к осени 1953 года партийной бюрократии утерянное было ненадолго после смерти Сталина преобладающее значение в руководстве по всей стране и уверенность в себе.
Пока же Хрущев не просто руководит худшей по потенциальным возможностям структурой, как опорой для своей власти чем Маленков, но и в одной из своих важных реформ — освоении целинных и залежных земель выбирает не хозяйственные, а сталинские агитационно-принудительные формы ее реализации. Как когда-то на Магнитку и на «великие стройки коммунизма» комсомол призывает молодежь ехать в голые степи Казахстана и Западной Сибири. Туда же отправляют и досрочно освобожденных из лагерей заключенных. И Хрущеву кажется, что эти приемы 30-х годов по-прежнему работают.
Они и сработали кое как в последний раз, память о Сталине была еще очень жива. Это было последнее наряду с практическим уничтожением страха перед спецслужбами всеобщего голода и нищеты обращение Хрущева к сталинским методам хозяйствования. Конечно, будут еще и строительство БАМа (Байкало-амурской магистрали) и сооружение Братской ГЭС, но там уже наряду с идеологическими призывами будут в первую очередь работать экономические стимулы — высокие заработки, внеочередные квартиры и т. д. И дальше Хрущеву для всех его сельскохозяйственных и промышленных реформ понадобятся подлинно хозяйственные механизмы, реальные деньги для капиталовложений, а всего этого у него в достаточной степени не окажется.
Возвращаясь к освоению целинных и залежных земель, конечно, можно вспомнить довод Сергея Хрущева о том, как и в Соединенных Штатах первые поселенцы оставляли брошенными и зараставшими лесом свои первоначальные земли в низкоурожайных регионах северо-востока и устремились на гигантские и высокопродуктивные степи юго-востока, где и было создано наиболее значительное в мире сельское хозяйство. И Хрущев поступил по-американски, в соответствии с требованиями ХХ века, начав освоение степей Западной Сибири и Казахстана.
Сравнение Сергея Хрущева было бы вполне правильным, но забыта одна подробность — в США осваивали гигантские просторы Айовы предприимчивые фермеры, а не бюрократический аппарат правительства Соединенных Штатов. В Советском Союзе целинники были не фермерами, а низкооплачиваемыми и испытывающими множество лишений рабами партийного руководства на этих благодатных и сложных землях. Промежуточного звена заинтересованных в своем урожае и доходах фермеров в СССР не было. Когда катастрофичность этой нехватки стала очевидной — Хрущев дал свободу от партийного руководства лишь одному директору целинного совхоза — Худенко. Тот сразу же показал блестящие результаты: и в урожайности и в доходности своих хозяйств. Но для использования этого реального опыта надо было ломать всю партийно-административную сталинскую систему управления сельским хозяйством, а не прибегать к паллиативным и противоречивым судорожным миниреформам. Наградить Худенко Хрущев мог и сумел, для него, действительно, хлеб был важнее, чем партийные догмы, но сломать вырастивший его аппарат уже не успел.
В рамках же социалистического хозяйствования и даже позднейших хрущевских замыслов реформы Маленкова, вероятно, оказались бы более успешными в долговременной перспективе, как и предполагает Сергей Хрущев, чем гигантские планы Хрущева. Традиционные сельскохозяйственные области российского нечерноземья с населением еще не вполне утерявшим крестьянские навыки, поддержанные либеральными, направленными на рост приусадебных участков, использование новой техники, которую много лет отправляли только на целину, молодежью, которая впервые увидела бы возможность относительно приличных заработков у себя дома, а после 1960 года уже и химическими удобрениями. Все это, конечно, не должно было отрицать и освоения земель Западной Сибири и Казахстана, но в меньших размерах, постепенно, как это делал Столыпин и не разоряя исконные русские области, которые в отличие от американского востока, были носителями древней культуры и столетних русских традиций и уже поэтому нуждались в поддержке и сохранении. Вместо этого отданное в абсолютное управление советским партийным чиновникам русская деревня продолжала разбегаться и вымирать. Когда через пять лет Хрущев спохватился ничего существенно поправить он уже не смог. Сын его пишет в книге «Реформатор»:
«Отец полагал, что (нечерноземье — С.Г.) получив волю (то есть отказ от обязательных поставок зерна государству), регионы перепрофилируются, остающееся в их распоряжении зерно пустят на откорм скота, на освободившихся землях займутся овощеводством. Не тут-то было! Местные начальники действовали по принципу: сверху не требуют, так и нам оно ни к чему. Зерноводство забросили, поля начали зарастать бурьяном и кустарником. В результате ни зерна, ни мяса, ни овощей.
Посевы высокодоходной, не требующей особого труда гречихи в Российской Федерации по сравнению с 56 годом снизились в два раза, а заготовки — в три. Нет ее в плане и никто не захотел с ней возиться.
То же — с зерном, мясом, молоком по всей стране».
Впрочем, юг Украины, Кубань, целинные земли, где обязательные поставки зерна государству для колхозов и совхозов никто не отменял, давали понемногу все растущее количество зерна государству, хотя и гораздо меньше, чем рассчитывал Хрущев. Главное, его не хватало в стране, за хлебом то и дело выстраивались очереди в магазинах. Героическая попытка Хрущева сделать раздачу хлеба бесплатной, как соль и горчицу, в общественных столовых, чтобы быть уверенным, что остро голодающих в стране нет, продолжалась чуть более года. Причина была очевидна и коренилась она в советской системе.
Местные начальники, конечно, считали, что им ничего кроме гладких отчетов не надо, но люди попроще как только понизили (а потом и вовсе отменили) налог на домашнюю живность, и коров и свиней заводить тут же стали в домашних стойлах. И на рынках мясо появилось. И польза от столь рекламируемой Хрущевым кукурузы, конечно, была — хоть какие-то корма для скота появились. Но скот был у крестьян, а силос — в колхозе и ни за какие деньги не продавался. Зато продавался уже выпеченный и сохранивший сталинские продажные цены (когда закупочные были в десять раз ниже) в магазинах хлеб. Цену на него по социальным причинам Хрущев поднять не мог, откармливать скотину уже готовым хлебом стало выгодно и его закупали мешками. А вот для растущего числа и советских людей и откармливаемого скота готового хлеба, конечно, не хватало.
Но все это стало вполне очевидным гораздо позже, а в 1954 году на заседании секретариата ЦК КПСС Хрущев говорит, что «мы — ленинцы, мы — сталинцы» (к этому заседанию с первым разгромом «Нового мира» мы еще вернемся), а в Воронежский обком КПСС, как пишут в книге «Власть и оппозиция»6 шесть ее авторов, приходит очень любопытное коллективное, анонимное письмо7 (по-видимому, никто из его авторов не был обнаружен и арестован). Повторим цитаты из него использованные в монографии, сохраняя комментарии авторов книги:
«Не подумайте только, тов. секретарь, что мы антисоветские люди, нет! Один из нас еще в гражданскую войну с оружием в руках завоевывал Советскую власть, один имеет три ранения и пролил кровь во вторую империалистическую войну за Сов. власть, третий тоже имеет контузию в этой войне. Так что в этом не сомневайтесь…”. Такая оговорка в самом начале послания не была случайной. Уж больно резко высказывались его авторы. Видно накипело: “Наша страна с каждым годом идет не вперед, а назад. Возьмите наш Воронеж – рабочему классу живется сейчас труднее, чем год назад. Ведь в магазинах кроме хлеба ничего нет. Сахар появился на 3-4 мес. и исчез, мяса нет, масла нет, да и вообще по государственным ценам ничего не достанешь, а покупать все на базаре, получая 600-700 руб. в месяц и имея семью 5-6 чел., – это просто, что ничего. Ведь масло на базаре 35 руб., кил. сахара 16руб.,мясо- 18руб…”. Не лучше, по мнению авторов письма, было и положение в деревне – нищета и убогость, как во времена Некрасова: “Мы во время войны побывали за границей, видели быт немецкого крестьянина, австрийского, чехословацкого, мы по быту от них отстали на 100 лет и с периода коллективизации… почти нисколько не выросли”. Заверяя, что они вовсе не думают о роспуске колхозов (тоже характерная оговорка — С.Г.), они высказывали мнение, что “политика партии и правительства в этом вопросе несколько неправильная” и что неплохо бы дать “послабления и уступки крестьянству” – вроде тех, что в 20-х годах позволили ему “быстро восстановить сельское хозяйство…”.
Воронежские анонимы считали необходимым провести также административную реформу, сократить число районов и сам районный аппарат, взяв за образец старую, дореволюционную волость, объединявшую от 18 до 25 деревень и обслуживаемую старшиной, волостным писарем, мировым судьей, приставом (одним на две-три волости) и двумя-тремя стражниками, а не 150-200 человек, как сейчас в районе. Считали они чрезмерной и численность многомиллионной армии: “Эти люди тоже являются только пожирающими, но ничего не производящими. Средства на армию идут большие. Надо тоже пересмотреть и этот вопрос так же, как пересмотрел его тов. Фрунзе в 1924 г…”
Коснулись авторы и вопросов пропаганды. “Ведь что теперь передается по радио, многие не верят. Поверят только тогда, когда это каждый почувствует на своей шкуре, а этого пока нет и не видно… Надоело уже слушать по радио одно и то же и по международному положению… Это по-видимому делается для того, чтобы все время наш народ держать в напряженном положении, чтобы он меньше думал о своем экономическом положении…”.
Все это, делался вывод, плохо отражается на морально-политическом настроении большой части рабочих: “Ведь вы не знаете, что говорят рабочие. А говорят иногда очень не в нашу пользу. Иногда говорят так: вот только бы скорее война и получить оружие в руки… Ну, вы понимаете, что это говорят только между собой и потихоньку… Но не подумайте, что это настроение небольшой кучки. Нет, это захватывает большой процент рабочих…”».
Это любопытное письмо вызывает несколько вопросов и жаль, что они не были заданы авторами замечательной во многих отношениях монографии. Во-первых, в 1954 году, конечно, тоже были люди рисковые, но те, кто пишут об известном им «большом проценте рабочих» готовых с оружием в руках бороться с советской властью, не могут не допускать, что уже на следующий день весь Воронеж будет перерыт пусть и сокращенными (о чем они не знают) МВД и КГБ сначала в поисках их самих, а потом и тех «рабочих», о которых они пишут. В 1954 году, хотя и не так систематично, как раньше, людей сажали на много лет и за менее радикальные тексты. Представляю себе, что осталось бы от Воронежа после приезда туда генерала Серова. Впрочем, в 1954 году все это могло быть, а могло и не быть. Никаких следов оперативной работы как будто бы нет, а письмо «воронежских анонимов» спокойно изучается в ЦК КПСС, а потом попадает в его архив.
По этому поводу можно даже сделать предположение, основанное на недавней и близкой Хрущеву истории, что Хрущев сам был автором письма. За пять лет до этого, в 1949 году возвращение Хрущева с Украины в Москву состоялось после получения Сталиным какого-то странного, тоже анонимного письма о том, что все руководство Московского горкома и обкома КПСС (тогда еще ВКП(б)),а так же и горисполкома состоит из заговорщиков, которые частью еще задумали, частью уже осуществляют планы по захвату власти в стране и отстранению ныне действующего руководства. Письмо это Сталин членам Политбюро не показал, сказал, что у него и раньше была об этом информация, но секретаря горкома Попова тут же заменил Хрущевым и не расстрелял (как фигурантов «ленинградского дела») лишь потому, что Хрущев, как и все члены Политбюро, не смевший спорить со Сталиным, все же сказал, что Попов, конечно, допустил серьезные ошибки, но он не враг партии и государства. По мнению многих историков письмо, полученное и процитированное Сталиным, если и существовало в действительности, то было написано по его собственному заказу (может быть даже Поскребышевым), когда он решил сменить руководство в Москве. Похоже, что в этом были уверены и члены политбюро и сам Хрущев, неожиданно оказавшийся в Москве.
Процитированное письмо «воронежских анонимов» имеет, кроме концовки две любопытные особенности. Во-первых, оно точно перечисляет все те основные направления, в которых в течении последующих десяти лет шли реформы Хрущева, во-вторых, все те примеры, которые они приводят: об обнищании деревни в сравнении с дореволюционным временем, об отставании от европейского уровня жизни, о достаточности, как до революции, одного урядника на волость и сокращения аппарата государственного управления, избыточности армии, странным образом совпадают с воспоминаниями и даже репликами самого Хрущева, когда он отвлекался от написанных текстов и начинал говорить «от себя».
Конечно, можно предположить и общность здравого смысла «воронежских анонимов» и самого Хрущева, но важным в этом предположении является лишь то, что летом 1954 года у Хрущева уже был вполне сформировавшийся план государственных реформ в Советском Союзе, ради которого ему надо было торопиться и для реализации которого он на очень многое был готов. К несчастью, результаты его проверки, если и впрямь письмо было написано с этой целью, оказались крайне неудовлетворительными. Оказалось, что преодолеть сталинское воспитание советских лидеров здравый смысл не может, даже под угрозой вооруженного восстания. Ни одного, кроме Маленкова, которого он воспринимал лишь, как опасного соперника, союзника в Президиуме ЦК Хрущев себе не нашел (даже Микоян стал его союзником позже, когда выяснилось, что у реформ Маленкова не остается реальных перспектив). К тому же Хрущев понял, что свои планы во всей их цельности и комплексе надо держать при себе, к чему человеку прошедшему школу 30-40-х годов было не привыкать.
Итак, если предположить, что письмо «воронежских анонимов» являлось почти исчерпывающим списком реформ планируемых Хрущевым уже в начале 1954 года, то к начатой компании по освобождению из лагерей, реабилитации выживших и погибших и решительному сокращению и спецслужб в СССР и милиции прибавились в уже описанный нами первоначальный период:
– повышение жизненного уровня сельского населения страны и продуктивности сельского хозяйства,
– довольно решительный отказ от демагогии в международных отношениях, от постоянно провоцируемого напряжения в стране объясняемого мифическими угрозами из-за рубежа,
а так же предстоящие:
– административная реформа, сокращение управленческого аппарата,
– повышение уровня жизни городского населения,
– резкое сокращение численности армии и за счет этого экономия средств необходимых сельскому хозяйству и промышленности;
– кардинальное изменение общественно-политической атмосферы в стране, состояния культуры, средств массовой информации, расширение открытости, смягчение всеобщей секретности внутри страны и стремление хоть в какой-то степени показать Советский Союз окружающему миру, а советским гражданам — неведомый зарубежный мир («если у нас рай, почему же мы прячем его за колючей проволокой», – говорит Хрущев).
Десять лет Хрущев будет двигаться по пути указанному «воронежскими анонимами», сперва с заметными успехами, чем дальше, тем с все более явными поражениями, сути которых он не понимает и лишь в конце правления придет (в ходе собственного замечательного внутреннего развития) к попытке гораздо более решительных реформ в Советском Союзе. Но это уже будет поздно, ему (как и Александру II) не дадут их осуществить. Пока же борьбу за единоличное руководство основной — партийной ветвью власти Хрущев ведет используя лучшие сталинские образцы кремлевских интриг.
Сперва, конечно, Молотов (при последующей поддержке Хрущева) критикует Маленкова за утверждение на предвыборном ( в Верховный Совет в марте 1954 года) о том, что «холодная война» является вовсе не альтернативой новой мировой войне ибо как раз ее практически и готовит, и что третья мировая война означает гибель мировой цивилизации. Хрущев, вероятно, на самом деле уже думает так же, как Маленков, который как и с сельским хозяйством его явно опережает, но вытеснение Маленкова из руководства страны, из положения лидера перемен для Хрущева важнее чем разумность политической позиции. Уже на сессии Верховного Совета 20 апреля 1954 Хрущев обсуждая вопрос о бюджете, как бы ненароком поддерживает Молотова и его сталинскую готовность к новой войне. Заявление Хрущева прямо не соответствовавшее его же реальной политике в ближайшее десятилетие, более близкой к позиции Маленкова, тем не менее было вполне категоричным:
– Если империалисты попытаются развязать новую войну, то она кончится крахом всей капиталистической системы.
В советской печати сперва фамилию Маленкова перестают называть первой в списке руководителей страны и для начала перечисление идет по алфавиту. В ряде докладов в партийных организациях о политическом положении в стране уже звучат критические упоминания в одном месте о Молотове, в другом — о Маленкове, и только после уже упоминавшегося январского пленума 1955 года ЦК КПСС «освободившего» Маленкова от должности председателя Совета Министров за ряд «политических ошибок», а на партийных собраниях начали (уже их участники, а не присылаемые докладчики) защищать Маленкова от огульных обвинений.
Всего через полгода 12 июня 1955 года Хрущев резко выступил (в связи с югославскими переговорами) против своего главного союзника в отставке Маленкова — Вячеслава Молотова. На этот раз это была не чистая демагогия, как в случае с Маленковым, а отражение формирующейся новой международной политики Никиты Хрущева. Хотя критиковали Молотова за «отказ от ленинской политики откалывания от империалистического лагеря неустойчивых и колеблющихся сил», но в основе было и нежелание Хрущева продолжать бесплодную идеологическую тяжбу, и стремление к созданию более мирной атмосферы вокруг Советского Союза и даже интерес к югославским хозяйственным реформам. На пленуме все поддержали Хрущева и скоро Молотов лишился поста министра иностранных дел. Но оба оставались членами Президиума ЦК КПСС.
Только добившись этих бесспорных успехов в кремлевской подковерной борьбе Хрущев смог начать подготовку к своему выступлению на ХХ съезде партии. Не только Хрущев, но и наиболее чуткая и информированная часть советского общества остро ощущали необходимость новых решительных шагов в решительном уходе от сталинского режима. На июньском пленуме 1955 года Твардовский, присутствовавший как член ЦК КПСС, даже не заметил критики Молотова, но записал в дневнике:
«Три дня — доклад и прения о промышленности. Все смело, правдиво, даже с перехлопом в отношении отставания от США, неиспользования наших социалистических возможностей, неумелости, некультурности… но все кажется, что частности все верны, а общего ключа ко всему вроде как нет».
Этим «общим ключом» для Хрущева и страны стал знаменитый доклад на ХХ съезде. Написано о нем так много, да и о подготовке к нему тоже достаточно, что повторять все нет смысла. 30 декабря 1955 года комиссия в составе Петра Поспелова, Павла Комарова, Аверкия Аристова и Николая Шверника после изучения значительной части сохранившихся документов представила Президиуму ЦК КПСС доклад о репрессиях в отношении партийного аппарата в 1937-40 годах. Собранные вместе материалы поразили членов Президиума. Все они знали лишь о тех репрессиях, в которых принимали участие сами. При этом существенным для понимания достигнутого Хрущевым влияния было то, что всего за два года до этого Хрущев смог добиться от Президиума ЦК лишь согласия не публиковать постановление о журнале «Новый мир», которое противоречило его курсу и обещанию, данному им Твардовскому. В феврале 1956 году в гораздо более серьезном для многих членов Президиума обсуждении готовившегося доклада о преступлениях Сталина (и их собственных преступлениях) когда-то наиболее влиятельные члены Президиума смогли теперь добиться от Хрущева лишь того, чтобы доклад прозвучал после завершения съезда, в дополнительный, заранее не объявленный его день и, главное, после выборов партийного руководства — они обоснованно полагали, что после доклада в руководители страны избраны не будут. Правда, выбор у них был невелик: или доклад Хрущева от собственного имени, на что он имел полное право в соответствии с уставом партии и чем он стал прямо угрожать членам Президиума, против которых доклад и будет тогда открыто направлен, или доклад от имени и по поручению всего партийного руководства.
Характерно замечание Ильи Эренбурга (в передаче его секретаря) после знакомства с докладом Хрущева:
– Этот дурак за три часа уничтожил все то, что я делал всю жизнь.
На самом деле все было не совсем так. Хрущев не мог (или не смог) выполнить совет данный ему весной 1956 года во время визита в Лондон Уинстоном Черчиллем (в передаче сына Хрущева):
- Это как преодоление пропасти. Ее можно перепрыгнуть, если достанет сил, но никому не удавалось это сделать в два приема.8
Любопытно, что в августе того же 1956 года в разговоре с Джаном Пайеттой (секретарем ЦК итальянской компартии) Хрущев совсем иначе передает совет Черчилля:
- Нужно дать время народу переварить то, что вы сообщили, иначе это обернется против вас.9
Хрущев, как мы знаем, решил преодолеть пропасть в два прыжка.
Кроме рассказа о чудовищных, потрясших Советский Союз и весь мир, небывалых по крайне мере в европейской истории, преступлениях коммунистического режима, правда о которых была лишь слегка приоткрыта Хрущевым и полностью приписана Сталину, попыткой удержаться в воздухе в центре пропасти и следствием доклада на ХХ съезде стало создание двух основополагающих опорных мифов — неприкасаемых, кое как поддерживавших идеологические основы и служивших самооправданием партийному руководству на весь оставшийся период существования Советского Союза. Создавать их оказалось, как мы уже сказали, необходимо, поскольку основной своей опорой, а соответственно и носителем власти в стране Хрущев избрал КПСС и теперь надо было оправдывать ее «руководящую роль».
Но обе эти опоры были далеко не безупречны и таили в себе серьезные идеологические ловушки, в которые постоянно попадал и сам Хрущев и постепенно создававшаяся им команда.
Первым мифом стал миф о мудрости и демократизме Ленина, а так же героической красоте октябрьской революции и первого послереволюционного десятилетия.
– С помощью Ленина мы убивали Сталина, – напишет много позже заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев.
На самом деле все было гораздо сложнее и идеологически труднее. Во-первых, без критики Сталина Хрущев не мог проводить свои реформы, менять внешнею политику Советского Союза, изменять весь климат в почти погубленной зверским государственным терроризмом и тоталитаризмом стране. Но образ Ленина и революции созданный агитпропом хрущевских лет имел мало общего с действительностью. Правда, немногие, кто все это знал на собственном опыте и выжил, предпочитали молчать, остальные давно превратились в лагерную «пыль», а письменные свидетельства были или засекречены или находились заграницей, у тех, кто спасся в эмиграции.
Во-вторых, слабость этого мифа кроме его несоответствия письменным трудам самого Ленина и историческим фактам, которые трудно было опровергнуть (все приходилось называть антисоветской пропагандой) была уже в том, что ленинская подпорка была гораздо слабее неколебимого четверть века сталинского фундамента НКВД-КГБ, соединявшего в себе хорошо защищенную тайну и животный страх всего населения страны: дополненные существованием всего народа на грани голодной смерти и неописуемой нищеты. И все это в сочетании с изощренной демагогией, к примеру, ежегодным снижением цен на продукты питания, которых и в глаза никто не видел; а так же собственной агрессивной подготовкой к ядерной войне с массированным запугиванием народа угрозой войны, готовящейся врагами со всех сторон, а при этом якобы неутомимой борьбой за мир. А уж небывалая по числу жертв и предыдущая война, тоже подготовленная Сталиным, обошлась народу почти во столько же, сколько стоили все советские лагеря, расстрелы, ссылки, раскулачивание и расказачивание, «пять колосков» и наполовину уничтожение и высылка десятка целых народов объявленных врагами.
А у Хрущева в его ленинском мифе ничего этого не осталось: ни животного страха, ни выживания на грани голодной смерти, ни ежеминутного ожидания новой войны. И в-третьих, для сохранения сложившейся государственной власти, всего гигантского аппарата управления и (все же пусть в меньшей степени) принуждения Хрущеву и всему сложившемуся партийно-государственному аппарату не просто необходима была ленинская подпорка, но нужна была идеализация и романтизация и его образа и всех «ленинских заветов» в такой степени, что у людей искренне в них уверовавших (а таких было множество — практически все поколение «оттепели») начинались обоснованное недовольство в результате сравнения этого мифа с реальными «верными наследниками Ленина» в лице Хрущева и его аппарата. С одной стороны на эти сравнения самих себя с созданным ими же ленинским идеалом аппарату Хрущева нечем было ответить, кроме возобновившихся политических репрессий, а они — были еще одним свидетельством «отступления советского руководства от ленинских норм партийной жизни», с другой — ни в малейшей степени нельзя было допустить мало-мальски реалистическое отношение к досталинскому периоду советской истории, поскольку оно разрушало и без того с большим трудом созданную ленинскую подпорку советского режима. Эту тройную идеолого-политическую ловушку, созданную вынужденной недоговоренностью Хрущева на ХХ съезде партии советскому руководству так никогда и не удалось обмануть. Государственной пропаганде удалось создать героическую почти рыцарственную (был и такой термин – «рыцари революции») основу ранней истории существующего строя, позволявшую частью сохранить старых (несмотря на разоблачения преступлений Сталина) и даже приобрести новых сторонников коммунистической идеологии, как в СССР так и в остальном мире, сосредоточить все чудовищное коммунистическое прошлое на личности Сталина. И одновременно хоть как-то обелить природу советского режима, существенно смягчив его античеловеческие качества, да еще и призвав себе в качестве существенной поддержки взлет русской культуры первых десятилетий ХХ века не сразу уничтоженный партийным руководством.
Тут же начали выходить альбомы «Художники первых лет революции» с литографиями Владимира Козлинского и плакатами «Окон РОСТА» Владимира Маяковского и Михаила Черемныха, избранными (подневольными) картинами Кузьмы Петрова-Водкина, «Красной конницей» Казимира Малевича и даже (попозже) «Формулой пролетариата» Павла Филонова. Юрий Любимов ставит на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир» почти напоминавшие постановки двадцатых годов, а Андрей Синявский и Андрей Меньшутин выпускают монографию «Поэзия первых лет революции». А уж о стихах Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, песнях о «комиссарах в пыльных шлемах» и юных физиков-супругов Никитиных о «маленьком трубаче», архитекторах и художниках кинотеатра «Октябрьский» на Арбате и говорить нечего. Опять вспомнили Михаила Светлова с его «Гренадой» (об украинском хлопце, который пошел умирать за то, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать). Булат Окуджава пел:
И если вдруг, когда-нибудь,
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сражение
Не покачнуло шар земной
Я все равно паду на той,
На той единственной, гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
Удалось создать, если не более массовую, чем во времена Сталина, то в чем-то более цивилизованную, более интеллектуальную поддержку хрущевской «оттепели».
Конечно, сформировать эту новую общественную идеологию было не так уж легко. Революция, правда, была уже очень давно, все ее противники в России были успешно уничтожены еще Сталиным, немногие уцелевшие ее участники (не из числа секретарей ЦК КПСС) собранные во «Всесоюзное общество старых большевиков» или не писали и не говорили ничего, как Игорь Сац, или писали краткие очень «деликатные» и тщательно отцензурированные записки вроде Елены Усиевич, или Лидии Фотиевой. Иногда возникали «технические» проблемы. Скажем, было принято решение создать музей Ленина в силе Шушенском, где вождь находился в ссылке. Сперва проблем не было — дом сохранился, даже обстановка в комнате, где жили Ленин с Крупской была цела. Но вдруг оказалось, что это был богатый купеческий дом и мебель в комнате у сосланного вождя была красного дерева. Все это совершенно не соответствовало ни рассказам советской пропаганды о лишениях, которые претерпевал вождь пролетариата, ни даже многочисленным созданным, конечно, не выходя из своих московских мастерских картинам советских художников о Ленине в ссылке. Гораздо более ясное и объективное, совершенно разрушающее хрущевский миф о революции представление сохранялось в русской эмиграции, но все связи с ней считались антисоветскими преступлениями и пресекались арестами, а случайно уцелевшие или попавшие из-за границы книги или уничтожались или надежно хранились в отделах специального хранения немногих крупнейших библиотек и выдавались лишь по специальным «отношениям» с места работы.
Тем не менее ХХ съезд вызвал в стране целую волну антисоветских откликов на всю советскую историю, но с ними более или менее успешно справлялся КГБ.
Второй опорой советской государственности, вторым основополагающим мифом после ХХ съезда КПСС стала Великая отечественная война. Теперь, как и при Сталине, только так писали и говорили о Второй мировой войне, не только стараясь даже не упоминать обо всем, что предшествовало 22 июня 1941 года, о том, что было после 9 мая 1945 года, и о том, что происходило даже в эти четыре года, но на других фронтах. Эта опора — победа в войне — была доказательством бесспорного (и единственного) успеха советской власти, символизировала единство всех советских народов и готовность защищать не только свою землю, но и советский образ жизни, даже советское руководство от иноземных захватчиков. Но и эта военная опора, в общем-то более реальная, чем миф о Ленине и революционной романтике, тоже имела серьезные органические дефекты. Победа в войне приобретала такое важнейшее значение, как единственное доказательство готовности народов СССР сохранить и защищать советскую власть, что войну тоже приходилось сильно идеализировать и ретушировать. Уже нельзя было говорить о катастрофическом ее начале, миллионах русских солдат не просто попавших в немецкий плен в первый же год войны, но нередко переходивших на сторону противника целыми полками с развернутыми знаменами, чего до этого не было во всей русской истории. Нельзя было говорить о военном невежестве Сталина, Ворошилова, Тимошенко, Мехлиса, об абсолютной запуганности Сталиным и Абакумовым в конце концов чему-то научившихся советских генералов, но готовых отправить на убой сотни тысяч солдат лишь бы выполнить приказ Сталина и самим остаться в живых. Нельзя было говорить о лагерном режиме, который был установлен уже во всем советском тылу. Соответственно, нельзя было говорить и писать о реальных потерях в войне и даже о расстрелах победивших в войне генералов, потому что какие-то военные реалии непосредственно с этими последними сталинскими репрессиями, конечно, были связаны.
Но война закончилась не так давно, как революция, ее участники и свидетели были еще живы, а потому гораздо большего труда стоило заставить молчать тех, кто не был согласен с патриотически-лживой пропагандой, и уж тем более тех, для кого итогами войны было не освобождение народов Европы от гитлеровской оккупации, не добровольное воссоединение прибалтийских республик и существенной части Польши с великим Советским Союзом, а передел Европы и новая кровавая советская оккупация. Как и в первом — ленинском мифе, в этом тоже нельзя было допустить даже мельчайших поползновений сопоставления его с исторической реальностью — вся конструкция могла посыпаться от единого вынутого кирпичика.
Вся вторая половина 1956 года после ХХ съезда КПСС ушла у Хрущева и советского аппарата на самое решительное (иногда кровавое, как в Венгрии) поддержание этих основополагающих для них мифов. Правда, сначала крайне непопулярными мерами приходилось подавлять внутренние противоречия ставшие результатом самого выступления на ХХ съезде.
Против сразу же ставшего известным доклада Хрущева в Тбилиси была устроена разнохарактерная (и сторонники Сталина и грузинские патриоты, защищавшие имя своего самого известного в мире соплеменника), но очень многочисленная (60 тысяч человек) и бурная студенческая демонстрация. Она была в конце концов разогнана беспощадным расстрелом — 21 человек был убит, 60 ранены. Именно с этого расстрела и началось безоговорочное осуждение сталинского террора и переход к демократическим формам правления. Впрочем, за три года до этого реформы начатые Берией и особенно решительно — в Германской Демократической республике 17 июня 1953 года превратились в вооруженное восстание в Берлине, в котором по меньшей мере погибли 52 восставших и 18 советских солдат. Подавлением восстания руководил тоже Берия.
Не менее странным с логической точки зрения, но неизбежным в условиях постоянного поиска компромисса внутри советского руководства и уже упоминавшейся необходимости считаться с идеологическими трудностями немногочисленных уцелевших лидеров зарубежных компартий Мориса Тореза, Пальмиро Тольятти и других, которые поддерживали перед лицом своих партий расстрелы «наймитов международной буржуазии» был уже упоминавшийся отказ в реабилитации наиболее известных жертв сталинских процессов 30-х годов. Правда, официально «троцкизм», «правый» и «левый» уклоны, как и другие виды оппозиции в партии, по прежнему осуждались в новой «Истории КПСС». В хрущевских мифах было много неувязок и приходилось опираться на диктаторскую ленинскую резолюцию «О единстве партии», запрещавшей любые фракции, а по сути дела — любое обсуждение как положения внутри КПСС так и ее истории. Может быть, отказ от реабилитации лидеров оппозиции в КПСС и был удобен для «международного коммунистического движения», но сразу же начал создавать проблемы внутри страны.
В самой России в отличие от Грузии, сразу же начались выступления на партсобраниях, в которых разоблачения Хрущева оценивались как недостаточные. Сталина прямо называли «палачом» (член партии с 1912 г. А.П. Кучкин), требовали «гласности и демократизации» и партии и страны (Юрий Орлов, будущий создатель Хельсинкской группы и всего движения в мире, контролирующего выполнение правительствами положений «Третьей корзины» – о правах человека). Генерал Петр Григоренко, сперва не отдавая себе в этом отчета, даже пытался подорвать обе опоры, на которых держался относительный консенсус в кремлевском руководстве. На районном партийном собрании он выступил с заявлением о том, что в Советском Союзе все еще нет достаточных гарантий от появления нового «культа личности» и после увольнения из Академии генштаба, где был заведующим кафедрой, и назначения на Дальний Восток создал конспиративную партию «Союз истинных ленинцев». А в статье по поводу официально осужденной и изъятой из библиотек книги историка Некрича, где более подробно, чем у Хрущева говорилось о причинах поражения советской армии в первые годы войны, генерал не просто поддержал охаянного историка, но еще и существенно дополнил его книгу. Рукопись одной из самых значительных книг, созданных в эпоху Хрущева — романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», где сталинский и гитлеровский режим во время войны, да и по самой своей сути, оказывались уж очень похожи — была конфискована КГБ (и это было одобрено Сусловым) в точности по тем же самым причинам. На самом деле и сторонники Сталина (Молотов после ХХ съезда КПСС стал очень популярен) и противники советского террора были недовольны половинчатостью, недоговоренностью доклада Хрущева и двусмысленностью советской пропаганды. Хрущев заявил, что описывая советское прошлое, он отказался от лжи, но как раз эта моральная посылка и сквозит в большинстве разнообразных критических выступлениях по его адресу.
– Одиночки спасают бессмертную душу, – написал Револьт Пименов оценивая и свой и многих других отказ от поддержки государственных мифов.
Начались самые разнохарактерные, сдерживаемые лишь сохранившимся еще привычным страхом и пусть ослабленным, но по-прежнему действовавшим КГБ, выступления против разоблачений Хрущева. Это были консерваторы, считавшие, что разоблачения опасны. «Не обнажать язвы перед обывателем», – кто-то написал в Кремле еще на предварительном варианте доклада Хрущева. Но не меньше было коммунистов-либералов, считавших, что сказано Хрущевым все правильно, но далеко не достаточно, к примеру, что репрессии коснулись только коммунистов и были только в конце 30-х годов (а миллионы людей хорошо помнили и расказачивание, и раскулачивание и пресловутые «пять колосков»). Меньше было радикалов, не приемлющих советскую власть ни до покаяния, ни после него, хотя сохранились и сотни подобных уголовных дел в Верховном суде РСФСР, упоминаемых авторами исследований «Власть и оппозиция» и «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953-1982 гг.»10. Эти обвиняемые вполне последовательно полагали, что вся советская власть преступна и нереформируема. Все это свидетельствовало о том, что общество к столь сложным, основанным на бесконечном лавировании, реформам не было готово и Хрущеву очень трудно было найти убежденных сторонников, способных поддержать этот к тому же вслух не высказываемый, очень трудный и двусмысленный курс.
Самым серьезным и самым известным посягательством на незыблемость мифа о революции стал знаменитый роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Этот замечательный роман, история создания и история публикаций которого, с «гневным осуждением» писателей и «всего советского народа», с вошедшей в фольклор формулой «я не читал «Доктора Живаго», но я знаю», присуждением Пастернаку Нобелевской премии, вынужденным отказом от нее — все вместе стало важнейшим событием, едва не затмившим доклад Хрущева. Конечно, появилась громадная литература на всех языках, много различных объяснений казалось бы совершенно непонятного, бессмысленного и уж во всяком случае неадекватного поведения советских властей, реакции самого Хрущева, выступлений Семичастного и Шолохова, разнообразного, большей частью мало приличного, поведения различных русских и зарубежных писателей, поэтов и общественных деятелей.
Между тем, я думаю, что все было довольно просто и в основе трагедии Бориса Пастернака, всего чудовищного мирового скандала вокруг публикации замечательного романа, лежала, конечно, непримиримая позиция Хрущева, точнее — вольное или невольное даваемое Пастернаком иное видение революции, чем то, что стало важнейшим мифом — опорой советской власти после ХХ съезда. Пастернак, который с такой надеждой принял выступление Хрущева против «культа личности», вероятно, даже не понимал, что его роман, будучи правдивым и талантливым, расшатывает одну из основных и недостаточно прочных опор власти с таким трудом выстроенную после ХХ съезда КПСС.
Хрущеву, во-первых, сразу же объяснили секретари ЦК, да и он сам это точно знал, что нельзя позволить даже минимальную дискуссию об Октябрьской революции — сразу начнет разваливаться все сооружение.
Во-вторых, будучи только политиком, он довольно реалистически оценивал роль литературы в России, да и всех видов искусства. С политической точки зрения не имело большого значения ни в общем-то нейтральное, совершенно не публицистическое и не антисоветское содержание романа, ни публикация его заграницей, в конечном итоге даже не присуждение ему Нобелевской премии и уж, конечно, не гений автора. Существенным и совершенно неприемлемым для ЦК КПСС в его хрущевском шатком равновесии был сам факт независимого, непредвзятого отношения к революции, возможность начала, полемики об основах советской власти. Этого допустить было нельзя, позиция Хрущева — политика (впрочем, он тогда не читал роман — прочел его после отставки) была непримирима и следствием ее было все, что происходило в Союзе писателей, на встрече с «творческой интеллигенцией» и даже многие публикации за рубежом — например гнусная статья Эльзы Триоле (жены Луи Арагона и сестры Лили Брик) в коммунистической «Леттр франсез». Хрущев и на пенсии считал, что совершена была ошибка, но не в том, что был ошельмован великий русский поэт, не была опубликована одна из самых значительных книг русской литературы ХХ века, а в том, что публикацию можно было сделать незаметной и избежать в результате и всемирного позорища и, одновременно, любой полемики, даже незначительного обсуждения романа в советской печати и в послушном советском обществе.
Совершенно такое же объяснение (но здесь уже речь шла о покушении на вторую основу режима) у казалось бы совершенно несходного по характеру, но совпадающего по времени преступления хрущевского руководства СССР — кровавого подавления Будапештского восстания и, одновременно, мирной договоренности Хрущева с Иозефом Гомукой. Расширение демократических свобод в Венгрии, смена сталинского руководства (Матиаса Ракоши) теми, кто в сороковые годы оказался в венгерских тюрьмах, скорее импонировала Хрущеву и не могла служить причиной расправы с забастовщиками, а потом и с восставшим народом. Конечно, будапештское восстание вызывало серьезные споры и расхождение во мнениях в Кремле, в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, подобные тем, которые происходили в 1953 году в отношении ГДР, когда Берия сначала добился решения Президиума ЦК о прекращении социалистических преобразований в Восточной Германии, а потом сам же руководил подавлением восстания берлинских рабочих, добивавшихся того же самого.
В конце 1956 года, правда, уже в ходе будапештского восстания, в Президиуме ЦК сперва оказались в большинстве сторонники решительной либерализации отношений Советского Союза с социалистическими странами, результатом чего и стала «Декларация» и статья в «Правде» 1 ноября 1956 года, где утверждалось равноправие в отношениях СССР и стран «народной демократии» и необходимость скорейшего вывода с их территорий советских войск. Но всего лишь через неделю, правда, что очень существенно, после начала Суэцкого кризиса, то есть, просто войны Египта национализировавшего канал с объединенными силами Израиля, Великобритании и Франции, советские танки начали кровавое подавление восстания в Венгрии.
Главное, вероятно, было в том, что частью из-за неудачного первого появления советских танков на улицах Будапешта, частью из-за неумения рассчитать новыми венгерскими лидерами допустимые для Кремля сдвиги во внешней и внутренней политике, русские части почти сразу же получили название «оккупантов». А вот это уже было серьезным шагом к пересмотру и сути и итогов всей Второй мировой войны. Этого не могли допустить ни советские маршалы, ни партийное руководство, ни сам Хрущев, которому подобный либерализм в Венгрии тут же стоил бы поста первого секретаря ЦК КПСС. В Будапешт приехали Суслов и Микоян, был конспиративно послан председатель КГБ Серов, который сперва планировал, а потом и руководил расправой над венгерским народом (а не посол Юрий Андропов, как это принято считать). В любом случае, даже считая, что он был инициатором принятия первоначальной кремлевской «Декларации» Хрущев и здесь успешно перехватил инициативу. Благодаря его шантажу, основанному на полнейшем блефе и запугивании правительств Англии и Франции Советский Союз неожиданно получил блестящие позиции на Ближнем Востоке, выступив на стороне Египта, а Хрущев не только не был расстрелян, как Берия, но остался первым секретарем ЦК КПСС. Впрочем, Лаврентий Берия был расстрелян не за свои либеральные проекты, хотя они и были поставлены ему в вину.
На первый взгляд казалось, что в Польше происходит то же самое. Освобожденный после смерти Болеслава Берута, за несколько лет до этого, из тюрьмы Вацлав Гомулка говорил о росте демократии и без труда стал влиятельнее избранного сперва с согласия Хрущева Эдварда Охаба. Гомулка стал во главе (но без консультаций с Москвой) нового польского руководства и даже демонстративно отказывался приглашать «советских друзей» в Варшаву. Но тут Хрущев сам прилетел в Варшаву, несмотря на нежелание поляков и сопротивление в Кремле, и после напряженных переговоров, из которых для начала стало ясно, что часть польской армии и все внутренние войска станут на защиту Варшавы от советской танковой дивизии руководимой маршалом Коневым, дивизия была не доходя Варшавы остановлена и большая европейская война не началась. Маршал Константин Рокоссовский, как агент Москвы, был отправлен в отставку с поста министра обороны Польши. Но основным была даже не готовность части польской армии выступить против русской чего не было в Венгрии. Было главное отличие от восстания в Будапеште — несмотря на вековые обиды Польши (а когда-то России), несмотря на то, что присутствие советских войск польский народ воспринимал еще болезненнее, чем венгры, любое польское руководство, в отличие от правительства Имре Надя, как и советское, было заинтересовано в сохранении итогов Второй мировой войны. Выселение сотен тысяч немцев из Померании, ставшие польскими немецкие города балтийского побережья (в первую очередь Гданьск-Данциг), вообще, вся граница по Одеру-Нейсе, вызывала ожесточенное сопротивление мощных объединений насильно выселенных немцев, которые все, естественно, сосредоточились в Западной Германии. Единственным бесспорным и мощным союзником Польши в сохранении этих иезуитски проведенных Сталиным послевоенных границ был Советский Союз. И потому, когда самолет с Хрущевым без приглашения приземлился на варшавском аэродроме, Гомулка сперва очень холодно вместе с Эдвардом Охабом и Юзефом Циранкевичем, его встретивший, в конце концов вполне смог с ним договориться. В конце концов Хрущев услышал (от Охаба):
«Польша больше нуждается в дружбе с русскими, чем русские в дружбе с поляками. Разве мы не понимаем, что без вас мы не сможем просуществовать как независимое государство?»11. А самому Хрущеву не нужно было ни жесткое сталинское управление «братскими» республиками, ни новое восстание по примеру Венгрии. Гомулка через год, когда содержание советских войск в Польше, показалось Хрущеву слишком накладным, а военной необходимости в их дислокации не было, даже сам попросил не выводить их из Польши, а потом — в 1968 году был убежденным сторонником ввода войск в Чехословакию.
Главное было в этом: не пересматривались итоги мировой войны, не нарушалась вторая из основных опор Хрущева внутри советского руководства. Только в этом случае он мог удержаться у власти и продолжать реформы. Положение в Кремле волновало Хрущева гораздо больше чем то, насколько значительны (или незначительны) будут либеральные перемены в Варшаве, или в какой степени является социалистической страной Югославия.
Внутри Советского Союза Хрущеву пришлось встретиться с общественным движением протеста против подавления Будапештского восстания, которое нельзя было назвать массовым (число арестов по политическим причинам даже в самые напряженные 1957-58 году не превышало 0,3% от общего числа заключенных), но все же гораздо более открытым и шире распространившимся по всей стране, чем, скажем, протесты (гораздо более известные) против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Студент отделения журналистики филологического факультета Московского университета Юрий Анохин на комсомольском собрании читает свои стихи:
«Мадьяры! Мадьяры!
Вы — братья мои,
я с вами — ваш русский брат!».
Многие студенты его поддерживают.
В Ленинграде М.М. Красильников на параде 7 ноября выкрикивает лозунги в поддержку венгерского восстания. Окружающие дружно поддерживают лозунги криками «Ура».
В Ярославе десятиклассник Виталий Лазарянц проносит перед трибунами плакат «требуем вывод советских войск из Венгрии».
В Дмитрове А.А. Латышев распространяет листовку с поддержкой венгерского восстания.
В Риге Х.А. Бриедис на заводском торжественном собрании задал вопрос – «Когда у нас перемениться власть так же как в Венгрии?».
26 ноября 1956 года А.П. Рудаков — научный сотрудник Ленинградского физико-технического института на собрании комсомольского актива заявил, что в Венгрии подавлено национальное движение, а в советском правительстве по-прежнему находятся люди ответственные за сталинские преступления.
В 1956-57 годах Револьт Пименов, Борис Вайль, Ирина Вербловская в Ленинградском библиотечном институте осуждают расправу в Венгрии.
6 июня 1957 года М.Г. Парахин на заводском митинге выступил против Хрущева, а в разговоре о Венгрии сказал, что скоро и в СССР будут вешать коммунистов.
И так далее12.
Одновременно, вопреки уверениям в свободе и либерализации, идут постоянные конфискации а аресты в литературной среде. Кроме упоминавшихся Бориса Пастернака и Василия Гроссмана уже в мае 1953 года вновь осужден к 10 годам лишения свободы до этого пять раз судимый эсер А.Я. Павловский, написавший (но никому не показавший) рукопись автобиографии. В 1957 году в третий раз арестована широко известная в 20-е годы поэтесса Анна Баркова за создание социально-фантастических (тоже никому не показывавшихся) повестей. Произошло это через несколько дней после ее реабилитации по двум прежним судимостям. Об арестах в многочисленных молодежных объединениях, конфискованных сборниках, преследованиях молодежи речь будет в следующей главе — об Александре Шелепине.
Возвращаясь же к волне протестов в Советском Союзе, начавшейся после ХХ съезда КПСС, да, собственно, ко всем силам (или средам) в Советском Союзе открыто или втайне не приемлющим постсталинское руководство страной в первую очередь по внутренней, а не по внешней значительности нужно назвать остатки русской интеллигенции и так называемых «враждебных классов». Это была среда, которая не могла не ценить того, что власть стала более «вегетарианской», но в любой из своих форм советская власть в России была в их глазах враждебна и русской (да и любой) культуре, нормальной человеческой жизни, приличным, а не людоедским человеческим отношениям. Конечно, роман Бориса Пастернака был выражением мироощущения именно этой среды. В еще большей степени была голосом этого мира Анна Ахматова и, конечно, не только с ее «Реквиемом» и «Поэмой без героя», но с множеством других, казалось бы совсем не гражданственных стихотворений. Весь мир ее поэзии, как мир немногих выживших ее современников не был советским, внутренне не имел ничего общего с советской властью. Книги и дневники Лидии Чуковской «Софья Петровна» и другие казалось бы тематически связанные уже с вполне советскими годами, по сути своей были продолжением того же, ахматовского, противостояния. Целый ряд советских писателей: Михаил Лозинский, Михаил Пришвин, Борис Шергин, Степан Злобин, Арсений Тарковский, Семен Липкин вынуждено уходя от советской действительности в воссоздание русской истории, дивной красоты русского Севера, русской природы, в переводы шедевров мировой поэзии были молчаливой, не только уцелевшей, но как-то приспособившейся к советской действительности, тем не менее средой бесспорной внутренней оппозиции. В гораздо большей степени такое отношение к власти было характерно для академической (академики Иван Павлов, Алексей Крылов, Петр Капица, Лев Ландау, Михаил Леонтович), для литературной, театральной (этот список очень велик) среды. И хотя эта казалось бы молчаливая оппозиция русской интеллигенции почти не выдвинула известных участников диссидентского движения (кроме Андрея Сахарова, конечно), но, по-прежнему, остаются очень любопытными немногие уцелевшие мемуары. В первую очередь это, конечно, «Погружение во тьму» Олега Волкова, напечатанные нами в №32-33 журнала «Гласность», «Записки» Людмилы Поляковой и многие другие.
Неприятие советского руководства, этой очень важной частью русского общества, молчаливое влияние которой все возрастало, поскольку опиралось на все богатство русской культуры, дополнялось более открытым (судя по сохранившимся уголовным делам) все еще сохранявшей неприятие советской власти значительной части русского крестьянства, где уже не оставалось просто никакого доверия к любому, исходящему из Кремля решению. Да и уж очень был смешон Хрущев со своей болтливостью. Я убедился в справедливости этой судебной статистики оказавшись после первого своего ареста в уголовном лагере (под Ярославлем), а потом и в двух уголовных тюрьмах (в Чистополе и в Верхнеуральске).
И тем не мене самым активным и многочисленным сопротивление хрущевским реформам было в наиболее деятельной образованной среде уже советской формации, часть которой стремилась к сохранению режима и доброго имени Иосифа Сталина (их выступления вновь усилились в 1957 году после отставки «антипартийной группы», внезапно, как мы видим из судебных решений, стал популярен Вячеслав Молотов), но большинство групп и отдельных выступлений связано с поисками «истинного ленинизма и марксизма». Генерала Григоренко (с «Союзом борьбы за возвращение ленинизма») мы уже упоминали, очень любопытной кажется группа следователя прокуратуры г. Ленинграда Г.А. Кривоносова, печатавшая на гектографе подпольный журнал «Коммунист».
В 1957 году группа выпускников МГУ «Союз патриотов» – так была подписана их листовка — Лев Краснопевцев, Марат Чешков и другие даже установили подпольные связи с оппозиционным движение в Польше. Обсуждение реферата «Основные моменты развития русского революционного движения», написанного Краснопевцевым и Леонидом Ренделем стало поводом уже для пересмотра роли и Ленина и Сталина в революции.
Правда, группа Ю.Т. Машкова опровергала учение марксизма-ленинизма, а «Русская национальная партия» по преимуществу из студентов Литературного института и вовсе не интересовалась марксизмом.
Результатом многочисленных оппозиционных выступлений в обществе стало постановление «Об усилении политической работы парторганизаций в массах и пресечении вылазок антисоветских элементов» в декабре 1956 года. Многочисленные суровые приговоры вынесенные в 1957-58 годах основывались именно на этой директиве.
И все же шаткость положения Хрущева стала особенно очевидной уже через год с небольшим после ХХ съезда: «антипартийной группе» почти удалось его сместить.
История с выступлением большинства (семь из одиннадцати) членов Президиума ЦК против Хрущева перед планировавшейся им поездкой в Ленинград на юбилейные торжества (250-летие основания города) описана много раз, повторять ее незачем, главное выделить несколько обстоятельств:
– Противниками Хрущева на первый взгляд были сталинисты — старые члены Политбюро Молотов, Каганович, Ворошилов и Булганин. В пропагандистских материалах к ним прибавляли уже далеко отошедшего от них Маленкова — по воспоминаниям сына — поддержавшего Молотова и Кагановича лишь из желания продолжить задуманные им реформы и сохранить те возможности, которые были у него в 1953-54 годах.
Но более неприятным было то, что против Хрущева выступили вовсе не сталинисты и гораздо более молодые — Дмитрий Шепилов, что особенно обидело Хрущева — на него он возлагал большие надежды, а так же Михаил Первухин и Максим Сабуров курировавшие упраздненные отраслевые министерства — им реформы Маленкова казались более продуманными и надежными. На самом деле это было первое противостояние уже хозяйственным и государственным реформам Хрущева пока еще небольшой группы партийных лидеров, которые не будучи еще противниками преобразований, надеялись найти для них более основательную опору. В 1964 году их же ошибку повторит Алексей Косыгин.
На этом этапе, в 1957 году, как известно, спасли Хрущева секретари ЦК (Фурцева, Брежнев, Козлов), тут же обзвонившие и призвавшие на помощь членов ЦК — первых секретарей обкомов, крайкомов и союзных республик, то есть весь партийный аппарат. В этой среде жило опасение возвращения сталинских порядков, что им казалось неизбежным после свержения Хрущева, да и его экономические новации — создание совнархозов, то есть территориального руководства промышленностью, казалось им гораздо более удобным чем прежнее — чрезмерно централизованное. Министр обороны Жуков, предоставивший военную авиацию и председатель КГБ Серов, взявший на себя организационные задачи, собрали за один день сперва 56 членов ЦК, а к концу дня — 86, которые и потребовали созыва пленума. Президиум ЦК, заседание которого сторонники Хрущева затягивали как могли, так и не успел принять решение о смещении Хрущева. На пленуме уже происходил разгром «антипартийной группы».
Даже это широко известное историческое событие, официально представленное, да так в основном и понимаемое и историками и обществом, как поражение открыто и совместно выступивших против реформатора Хрущева консерваторов и сталинистов, стремившихся повернуть страну назад, только сыном Хрущева реалистически оценивается как первое осознание партийным аппаратом того, что именно его голосами (а не НКВД-КГБ, как при Сталине) в стране появляются новые, или сохраняются старые лидеры. В борьбе с Маленковым Хрущев смог собрать всю власть в руках партийного аппарата, в борьбе с «антипартийной группой» дал этому аппарату первую возможность продемонстрировать эту власть. Одновременно Хрущев заложил основу и для своего свержения, когда единственная максимально укрепленная им сила в стране больше не пожелала иметь такого лидера, который затеял ненужные и обременительные для аппарата реформы, а убедившись в противостоянии аппарата реформам попытался , как это начинал и Маленков в 1953 году сделать его второстепенной в распределении власти в стране структурой. Но потерпел сокрушительное поражение. Хрущеву на время удалось свести до минимума участие спецслужб в государственном управлении, но не удалось даже в малой степени лишить власти партийный аппарат.
Впрочем, сразу же после этой двусмысленной победы над «антипартийной группой», Хрущеву удалось одержать еще одну важную и тоже временную победу.
Вопрос об источнике и опоре высшей власти в стране вскоре был задан в новой не менее серьезной ситуации. На поверхности все это выглядело очень просто. Всего через четыре месяца, в результате очередной интриги Хрущева, отправленный для переговоров в Югославию маршал Жуков, еще так недавно спасший Хрущева, был выведен из состава Президиума ЦК и даже из членов ЦК КПСС и уволен с поста министра обороны.
Причину его отставки объясняют по разному. От официального обвинения в бонапартизме и стремления к захвату высшей власти в стране, до мелочной и ничем не оправданной неблагодарности Хрущева.
На самом деле все представляется все гораздо более сложным. Сталин, как и Ленин, в случае с Львом Троцким, жестко подавлял мельчайшие формы самостоятельности армии. В высшей степени сомнительная смерть Фрунзе на операционном столе должна была быть зловещим предзнаменованием для новых маршалов. Как только они научились использовать опыт гражданской войны, приобрели минимальный опыт ведения современной войны: в Испании, на Халхин-Голе, а главное — в ожидании новой гигантской войны, для которой Сталин готовил огромную армию, все ставшие мало-мальски внутренне самостоятельными и серьезными людьми, армейские офицеры были беспощадно уничтожены. Их заменили гораздо более молодые не имевшие никакого опыта и дрожавшие при одном звуке голоса Сталина. Как это скажется на ходе войны, Сталина интересовало гораздо меньше, чем минимальная их (или хоть одного из них — а как поймешь, кто это именно — все клянутся в верности) возможность, как, скажем, самостоятельного Нестора Махно переменившего фронт и воевавшего против Красной армии не снимая полученного ордена Красного знамени, выступить против его — Сталина неограниченной власти. Тем более, что у многих полководцев революции могли быть или личное недовольство режимом Сталина или хотя бы родные или друзья среди погибших от Голодомора или по многим другим причинам. Им нельзя было доверять созданную для великой войны пятимиллионную армию. Аресты и частью расстрелы сотни генералов — победителей в Отечественной войне, служили той же цели. Армия вновь была увеличена до пяти миллионов, вновь готовилась Сталиным к большой войне и Сталин вновь начал (не успел завершить) ее такую же, как и до войны чистку.
Сталин, правда, так же чистил и партийный и хозяйственный аппарат, а спецслужбы, которые производили по его указаниям все эти аресты, пытки и казни тоже регулярно прореживал и одних палачей заменял другими.
Хрущев лишил МВД-КГБ законодательно и практически возможностей расправы с другими ветвями власти, в борьбе с Маленковым все управление страной сосредоточил в партийном аппарате, уничтожив многие министерства, а другие сделав маловлиятельными просителями в ЦК КПСС, но армия постепенно приходила в себя. У нее был влиятельный и жесткий лидер и она становилась единственным оставшимся в стране источником возможной власти, потенциально противопоставленным партийному аппарату.
Как и вопросами освобождения из лагерей, тюрем и ссылок, реорганизации КГБ и МВД Хрущев почти в одиночку с первых же дней вынужден был заняться внешней политикой. В последние годы жизни Сталина Советский Союз активно «боролся за мир» в форме разнообразных «стокгольмский воззваний» и поспешно готовил термоядерную третью мировую войну, в сравнении с которой Вторая мировая, где погибло около пятидесяти миллионов человек, выглядела бы детской забавой.
Уже в октябре 1947 года был провозглашен новый советский курс. Тьерри Вольтон так пишет об этом:
«Но для Сталина политика “классового сотрудничества” закончилась. Открывая конференцию (в Склярска-Пореба — С.Г.), советский представитель Андрей Жданов высказался предельно ясно. Отныне мир разделен на две части, с одной стороны, лагерь империализма, объединившийся вокруг США, с другой – социалистический лагерь, который должен под знаменем Советского Союза “бороться против угрозы новых войн и империалистической экспансии, за упрочение демократии и за искоренение остатков фашизма”. В рамках этой новой политики коммунистические партии должны “возглавить сопротивление во всех областях” и не идти на уступки тем, кто ведет себя “подобно агентам империалистических кругов США”, то есть “большей части руководителей социалистических партий”.
Вынужденный выступить с самокритикой, Жак Дюкло пообещал, что ФКП окажет твердую поддержку “мирной и демократической политике Москвы”. На следующий день Жданов сообщил делегатам, что Сталин удовлетворен заявлением Дюкло. Французских коммунистов простили. Теперь им следовало оправдать доверие, вновь оказанное “великим вождем”.
Конференция в Склярска-Пореба, закончившаяся созданием Коминформа (Коммунистического информационного бюро), сменившего распущенный в 1943 году Коминтерн, означала кардинальный поворот в истории ФКП. Партия сменила курс на 180 градусов и уже с октября 1947 года ужесточила свои позиции. Руководителей социалистических партий обвинили в сдаче страны американскому империализму, речь больше не шла о возврате в правительство. Коммунисты должны теперь бороться за “обеспечение самого существования Франции как суверенного и независимого государства” (подразумевалось – против Соединенных Штатов), заявил Морис Торез на митинге на зимнем велодроме. На практике ФКП начала противостоять всему, что могло бы усилить западный лагерь в борьбе с социалистическим лагерем, в частности проводя кампанию против европейской армии и собственных ударных сил. Несколько месяцев спустя партия в лице пропагандистского аппарата во всеуслышание заявила, что в случае конфликта между Востоком и Западом коммунисты никогда не будут воевать против Красной Армии».
На XIX съезде КПСС в 1952 году Сталин выступил лишь перед главами «братских» коммунистических партий. Обращался к тому же не к главам компартий «социалистических» стран, а исключительно к тем, кому еще предстояло придти к власти. С многочисленными «своими» ему уже нечего было обсуждать — все приказы исполнялись мгновенно. В состав советского Политбюро Сталин вписал множество новых членов (для смены старых) не только не обсуждая это на съезде, не голосуя за нужных ему «товарищей», но даже не упоминая об этом ни на съезде, ни с Хрущевым, который делал доклад о положении в партии. Теперь для Сталина – «особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти».
Только им Сталин сообщает, что:
Наша партия «сама должна оказывать им поддержку… в их борьбе за освобождение…»
И напоминает, что:
Наша партия оправдала эти надежды особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую и японскую фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угрозы фашистского рабства.
Только им Сталин диктует новую модель поведения, радикальное изменение политической позиции:
«Знамя (буржуазно-демократических свобод — С.Г.) придется поднять вам, … если хотите собрать вокруг себя большинство народа;
Знамя национальной независимости… придется поднять вам, … если хотите стать руководящей силой нации.
Русские коммунисты выстояли… – говорит Сталин, – и добились победы. То же самое будет с этими партиями… Есть все основания рассчитывать на успех и победу братских партий в странах господства капитализма», – завершает он свое краткое выступление.
До этого, в январе 1951, года прошла тайная встреча с лидерами компартий социалистических стран и Генштаба СССР, где он заявил, что недолго, лет на пять-шесть, у коммунистического лагеря установится военное преимущество перед империалистами. И этими годами надо воспользоваться, чтобы утвердить коммунистические правительства на большей части Земного шара. Сталин знал, о чем говорил, — через несколько месяцев после XIX съезда в СССР должна была быть готова водородная бомба, годная для бомбардировки любых объектов, а не испытанное американцами взрывное устройство, не предназначенное для транспортировки. Конечно, именно об этом недолгом военном преимуществе социалистического лагеря и говорил Сталин. До начала ядерной войны оставалось года полтора-два. Одновременно весной 1952 года Сталин потребовал, чтобы в Советском Союзе были срочно построены и приведены в полную боевую готовность сто дивизий бомбардировщиков фронтовой авиации с реактивными двигателями, на что была просто неспособна советская военная промышленность. Надо было подготовить десять тысяч молодых летчиков, штурманов и стрелков-радистов, для чего были открыты новые летные училища; надо было подготовить дополнительно тридцать дивизий истребителей и десять полков разведывательной авиации. На Камчатке и на Чукотке началось срочное сооружение сотен военных аэродромов.
«На Чукотке строили казармы для военно-воздушных частей, – цитирует Млечин генерал-лейтенанта Н.Н. Остроумова, – и аэродромы для бомбардировщиков дальнего радиуса действия, в Игарке — военную базу, в бухте Провидения — военные склады. Вдоль всего Северного Ледовитого океана тянули железную дорогу, подтягивали железнодорожные пути к Камчатке. Задача состояла в том, чтобы сразу перенести войну на территорию Соединенных Штатов»13.
Сергей Хрущев в своей книге об отце пишет, что в Северном Ледовитом океане подыскивались льдины годные для размещения военных аэродромов.
В 1948 была сформирована специальная 14-я десантная армия под командованием генерала Николая Николаевича Олешева (1906–1970). В сентябре того же года ее начали перебрасывать на Чукотку, где она был дислоцирована в бухте Провидения.14
Летом 1949 г. на Дальнем Востоке началось формирование авиационного отряда для сопровождения бомбардировщиков.
В августе отряд был переброшен на Чукотку и разместился здесь на аэродроме Маркова.15
Позднее этот авиационный отряд был преобразован в 95-ю истребительную авиационную дивизию. Чтобы понять значение этого, необходимо учесть, что тогда авиационная дивизия насчитывал около ста самолетов. В октябре 1952 г. 95-я дивизия была передислоцирована в поселок Анадырь, а затем на основании директивы Генерального штаба № 0013 от 11 ноября 1953 г. переведена в Белоруссию.16
В 1992 г. H.H. Остроумов поведал о том, как летом 1952 г. главнокомандующий ВВС П.Ф. Жигарев собрал генералов и поставил их в известность о том, что он «получил указание товарища Сталина приступить к формированию 100 дивизий реактивных бомбардировщиков фронтовой авиации». Среди мест базирования этой бомбардировочной армады были названы Камчатка и Чукотка. Закипела работа, но после смерти Сталина в 1953 г. она была прекращена.17
Не менее характерным является и размещение советской авиации на востоке Китая, уже в декабре 1949 года (уже после победы в Китае Мао Цзэдуна, т. е. после окончания войны) советские военно-воздушные и прожекторные зенитные части продолжает усиливаться. Из-под Димитрова отправляется в Китай Первый гвардейский зенитно-прожекторный полк, получивший сразу же такое армейское название. Любопытно, что перед отправкой все военнослужащие получают гражданскую одежду и для нее красные одинаковые чемоданы. Возле границы их встречает Мао Цзэдун (Известия 1991 год 4 января).18
Для НОК вместо поставленных по их просьбе с Советским Союзом 26 самолетов в результате оказывается передислоцированными 200 истребителей и 80 бомбардировщиков, да к тому же 1200 летчиков и 2000 техников. Что особенно удивительно и, может быть, мне кажется объяснено только уверенностью Сталина не только в близкой войне, но и очень значительных завоеваниях, все договоры Сталина с Мао Цзэдуном кажутся совершенно убыточными для Советского Союза, СССР отказывается от всех выгод полученных по договору 1945 года и всех предыдущих соглашений. Так КЧЖД (Китайско-Чаньчуйская железная дорога, до этого КВЖД, которая была закреплена за СССР на 30 лет, теперь передавалась Китаю в 1956 году навсегда, порт «Дальний», который по Ялтинским соглашениям должен был быть открытым под советским управлении в 1950 году передается Китаю со всем имуществом и даже Порт-Артур теперь сохраняется за Советским Союзом теперь не на 30 лет, а тоже только на два года. Больше того Китаю предоставляется кредит в 300 млн. рублей под ничтожный 1% годовых и удовлетворяются все его помощи о помощи в других областях. При этом Сталин гарантируя таким образом поддержку Советскому Союзом Китаем и в большой грядущей войне и в начавшиеся войне в Корее, где основной силой и должны были быть китайские войска, тем не менее в этом открытом противостоянии с США ведет себя пока еще очень осторожно. В Корею приходится посылать советских летчиков, поскольку ни корейские, ни китайские пока не могут управлять современными истребителями. Понятно, что их переодевают в китайскую форму, выдают им какие-то примитивные китайские словники для переговоров в воздухе, которыми, конечно, никто не пользуется и американцы записывают на станциях прослушивания только русский мат. Но при этом летчикам не позволяется ни пересекать 38 параллель даже в те месяцы, когда китайцы казалось оттеснили и американцев и южнокорейцев и войска ООН к самому югу Кореи, ни даже пересекать береговую линию самой Кореи, чтобы не оказаться в зоне действия американского флота.
Такая осторожность Сталина, конечно, связана с прямой угрозой, как в 1946, так и в 1951 годах прямого вооруженного столкновения с Соединенными Штатами, к которому в это время Сталин Советский Союз считал не готовым. Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина:
“После того, как немцы в 1941 году были в 18 километрах от Москвы, наверное, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?”
“Царь Александр дошел до Парижа”, буркнул Сталин.
Вскоре вопреки Тегеранским соглашениям Советский Союз сохранил оккупацию всех стран Восточной Европы, начал насаждать там тоталитарные коммунистические режимы, эшелоны с арестованными уже не только русскими, но и поляками, чехами, венграми один за другим поехали в Сибирь. Да в общем и Париж не казался таким уж защищенным, хотя между армией Жукова и Францией стояли мощные англо-американские силы, но в Греции коммунистические партизаны уже практически установили свою власть, Пальмиро Тольятти был самым влиятельным политическим лидером в Италии и дорога к Франции вполне могла быть проложена с юга через Средиземноморье. Тем не менее, хотя Трумэн был по-видимому согласен со странно и рано погибшим генералом Паттоном о необходимости разгрома вслед за гитлеровской армией и армии коммунистического Советского Союза, но не проблемы в Европе привели к достаточно внятному конфликту.
В конце 1941 года для того чтобы наладить снабжение Советского Союза военной техникой, бензином и продовольствием по американскому плану «Лендлиза» английские войска из Сирии оккупировали южные районы Ирана, достаточно пронемецки настроенного, а советская армия из Закавказья и Туркмении иранские северо-восточные провинции. Не оккупированной оставалась лишь 100 км зона вокруг Тегерана. В результате был заключен англо-ирано-советский договор о свободном передвижении грузов, разгружаемых в сирийских портах Средиземного моря, через Иран к каспийскому побережью. Благодаря этому договору Советский Союз через Иран получил около третьи всей американской помощи по Лендлизу. Но договор имел ограниченный срок действия и предусматривал, что не позднее полугода после окончания военных действий все иностранные войска будут выведены с территории Ирана. И, действительно, английские и американские части (за эти годы американцы по просьбе Советского Союза привели в порядок иранские дороги, построили на берегу Каспийского моря мощные авто и авио сборочные заводы и портовые сооружения) из Ирана были выведены, но Сталин и не думал об этом. В южном Азербайджане — это северный район Ирана, при поддержке советских войск уже была провозглашена народно-демократическая республика южного Азербайджана, готовая, как это было на Украине и в Белоруссии, «добровольно воссоединиться» с братским народом советского Азербайджана. И больше того, в иранском Курдистане тоже не просто активно действовали коммунисты тоже начало создаваться свое прокоммунистическое государство. А курды, как известно, живут не только в Иране, но и в Турции, Ираке и Сирии и были разделены Версальским договором между этими государствами и в результате очень плохо относились и к англичанам и к американцем. Советскому Союзу же это давало надежды как на выход к самым нефтеносным районам, так и возможность дальнейшего давления на Турцию, по-прежнему контролировавшую столь важные для России проливы в Средиземное море. Осмелюсь высказать предположение, что именно эти ближневосточные планы Сталина и были причиной полной высылки из Крыма и Кавказа всех мусульманских народов, обвиненных в сотрудничестве с немецкой армией. Но высланные турки-месхетинцы жили в районе Грузии, где никаких немецких войск не было, тем не менее, все они оказались в Средней Азии.
Перед Сталиным, казалось, открывались необъятные возможности для действий на Ближнем Востоке и здесь приходится ссылаться на косвенные лишь свидетельства историков, но не на реальные опубликованные в Советском Союзе или в Соединенных Штатах документы. Считается, что Трумэном был послан Сталину ультиматум в 1946 году, в котором говорилось, что если в течении 48 часов условия англо-иранско-советско соглашения не будут выполнены, то Советский Союз вслед за Хиросимой и Нагасаки подвергнется ядерной бомбардировке. И хотя точный текст этого ультиматума неизвестен, но иначе трудно понять почему за двое суток советские войска были выведены из Южного Азербайджана, маршал Баграмян забыл о танковом марше к Тегерану, был совершенно забыт не только Курдистан, но и коммунисты Греции и Италии и даже, как мы уже писали, согласившись по просьбе Ким Ир Сена на войну в Корее, Сталин по прежнему требовал от советских летчиков максимальной осторожности, да и согласие Сталина было получено только после обещания Мао Цзедуна ввести в Корею миллион «добровольцев». Для осторожности и в 50 и 51 -м году были вполне серьезные основания и здесь они имеют и документальные подтверждения — когда миллионная китайская армия вторично едва не захватила всю Южную Корею, американский главнокомандующий генерал Макартур настаивал на немедленной ядерной бомбардировке не только китайско-корейских войск в самой Корее, но и китайских баз на востоке Китая, где в это время располагалось большая часть его пятимиллионной армии и советские авиабазы. Как считают историки, Трумэн отказал Макартуру не из-за боязни начала теперь уже термоядерной новой мировой войны и уж тем более не из сочувствия к коммунистическому режиму Китая и Советского Союза, но из-за опасения построенного на следующем расчете: для разгрома китайско-корейских войск вместе с советскими авиационными и техническими базами по расчетам американских военных требовалось сорок атомных бомб. Соединенные Штаты в это время располагали двумя сотнями ядерными зарядами и с точки зрения Трумэна оставшихся 160 могло не хватить для защиты Западной Европы, если бы Советский Союз начал в ответ европейскую войну по всему фронту.
Но к 1953 году Сталин был уверен, что у СССР будет не только атомная, но и водородная бомба и по свойственной всем коммунистическим режимам самоуверенности, которая едва не привела к краху Советского Союза в 1941 году, считал, что достаточно даже несколько атомных и водородных бомб сбросить на территорию США, чтобы заставить их капитулировать. Ядерной бомбардировки СССР (всего лишь атомными бомбами) Сталин, как и Мао-Цзэдун, не боялся. Советский Союз — не Япония — страна большая, кто-нибудь да выживет. Теперь в США и Европе уже ничто не могло противостоять пятимиллионной советской армии и вооруженным коммунистическим партиям во всех крупных странах Запада. Вся Москва была изрыта гигантскими бункерами, где были не только склады и кабинеты, но свое тайное метро и мощная электростанция. Вероятность «ядерной зимы» еще не была просчитана и о том, что в крупномасштабной атомно-водородной войне погибнет все человечество, Сталин не знал.
Казавшаяся неудачной военная авантюра в Корее на самом деле была военными маневрами и военным полигоном для тренировки летчиков, впервые встретившихся с американской авиацией. Результаты были не блестящими — советские МИГи заметно уступали новейшим американским истребителям, тяжелых бомбардировщиков в СССР не было вовсе. То есть, как и перед второй мировой войной недостатки в качестве вооружений надо было компенсировать их количеством. К тому же разница в несколько раз в промышленном потенциале СССР и США давала возможность американцам в краткие сроки нарастить производство необходимых вооружений. Советский Союз на это не был способен. Надо было изначально иметь большой запас на случай потерь. С этим и были связаны столь фантастические заказы Сталина министерству обороны и советской военной промышленности. С 1948 года по 1 марта 1953 года численность первоначально сокращенной после войны советской армии опять была увеличена почти вдвое: с 2.8 млн. человек до 5.6 миллионов. То есть Сахаров был не прав, когда считал, что его ядерные разработки помогают сохранению мира. В Соединенных Штатах, конечно, были свои «ястребы», но кроме них был конгресс, народ, который не хотел гибнуть в войне и с ними надо было считаться. В Советском Союзе никаких сдерживающих Сталина сил не было и разработчики водородной бомбы только приближали мировую войну. Конечно, Сахаров не мог всего этого знать в 50-е годы, да и думал тогда совсем иначе, чем во второй половине 60-х годов.
Хрущев в своих воспоминаниях сперва прямо отрицает подготовку в Советском Союзе к нападению на своих бывших союзников. Но потом где-то проговаривается, что Сталин в 1952 году уже видел себя владыкой всей Европы. Думаю, что его первоначальное отрицание готовившейся Сталиным термоядерной войны было связано с нежеланием поддерживать довольно стойкую у европейцев уверенность в том, что «русский медведь» в течение всей истории представлял неизменную опасность для Европы и всегда вынашивал захватнические планы.
Хрущев не только заключил мир в Корее, продолжив инициативу Берии, но и для более спокойных отношений с Китаем вернул ему военную базу в Порт-Артуре. Для нормализации отношений с Финляндией вернул ей совершенно ненужную СССР базу в Поркалла-Удд (почти на окраине Хельсинки). Заключил мирный договор с Австрией и вывел из нее советские оккупационные войска и даже не дал себе труда удержать и достроить базу подводных лодок в Албании на Сазанском острове, то есть в Средиземном море. Все это не только создавало гораздо более спокойные отношения на границах Советского Союза, но и соответствовало совсем новым представлениям Хрущева о стратегическом противостоянии в мире.
Не успел Хрущев лишь завершить подписание мирного договора с Японией. Его отсутствие было результатом то ли глупости, то ли сознательного сохранения старого состояния войны в преддверии новой мировой со стороны Сталина. Придравшись к тому, что не все советские поправки до последнего слова были включены в текст Сан-Франциского мирного договора стран антигитлеровской коалиции с Японией, советская делегация не стала подписывать этот договор, хотя он предусматривал передачу СССР и Южного Сахалина и всех Курильских островов. Сталин рассчитывал на совместную с США оккупацию Японии, на то, что советские войска будут допущены американцами на остров Хоккайдо. Но в ходе Сан-Франциской конференции выяснилось, что этого не произойдет и Советский Союз не подписал мирный договор с Японией. Но через десять лет пришедшие в себя после поражения и ядерной бомбардировки японцы хотели сохранить хотя бы Малую Курильскую гряду. Было подписано предварительное соглашение о ее разделе: два острова СССР, два — Японии. Но свержение Хрущева прервало и этот процесс.
К 1955 году Хрущеву удалось покончить с еще одним сталинским наследством ожесточенной идеологической борьбы с «югославскими ревизионистами». С хозяйственной точки зрения планируя и осуществляя в какой-то мере все новые и новые реформы в Советском Союзе, он уже далеко не был убежден, что более гибкая югославская модель так уж враждебна его собственному, а не сталинскому представлению о социалистической экономике. Поскольку Хрущев на самом деле не готовил войну, ему не был нужен, как Сталину, в Югославии послушный лакей. Вполне достаточно нормальных государственных отношений и избавления советской пропаганды и внутри страны и вне ее от борьбы с «бешеной собакой Тито». На посвященном этой перемене в коммунистической пропаганде и межгосударственных отношениях пленуме никто не поддерживал Молотова, который пытался защитить доктрину идеологического противостояния в социалистическом мире. Любопытно, что всего за полгода до этого именно Молотов — самый активный сторонник Хрущева по низложению Маленкова, хозяйственные проекты которого — ускоренный рост легкой промышленности и повышение жизненного уровня населения страны, кажутся Молотову опасными и почти ревизионистскими. Основной же причиной отставки Маленкова стало утверждение, что третья мировая война приведет к гибели человеческой цивилизации. Только поставив на место Маленкова во всем послушного ему Булганина и заменив Молотова — Шепиловым, Хрущев сможет публично провозглашать эти представления Маленкова, как свои собственные. Ну что ж, он хорошо усвоил уроки Ленина и Сталина.
Но когда Хрущеву хотелось что-то получить в международных отношениях для Советского Союза лишь на первых порах это удавалось сравнительно удачно, да и то за счет его унаследованной от Сталина зловещей репутации, чего привыкший к мужицким отношениям в Кремле лидер даже не мог понять.
Его первый визит в крупную европейскую страну — в Великобританию, состоялся в 1956 году. О множестве недоразумений, связанных с неумением себя вести, вероятно, все уже написано и это не интересно. А вот то, что Хрущев в Лондоне как бы между прочим дважды упомянул, что для уничтожения такой маленькой страны понадобится всего пять водородных бомб, конечно, было очень серьезно. На самом деле этот неприкрытый и наглый шантаж был к тому же полным блефом — ни самих бомб в СССР еще не было (Сахаров искал новый вариант их конструкции), ни средств доставки: ни тяжелых и скоростных бомбардировщиков, ни ракет такой дальности и грузоподъемности. Но в Англии знали, что какие-то бомбы есть и какие-то ракеты испытываются.
Этот наглый блеф-шантаж и его продолжение, как ни странно, позволил Советскому Союзу завоевать очень мощные позиции на Ближнем Востоке. Уже осенью того же 1956 года молодой президент Египта Гамаль Абдель Насер, с которым и советское КГБ и министр иностранных дел Шепилов успели наладить пока еще не прочное, но все же взаимопонимание, решил национализировать Суэцкий канал, чтобы получать те доходы от него, которые до этого получала построившая его англо-французская компания. Англия, Франция и поддержавший их Израиль объявили войну Египту не только из-за этого откровенного грабежа, но и не желая передавать арабам контроль над этой важнейшей стратегической транспортной артерией, связывающей Европу с Азией и восточным побережьем Африки. В Англии даже подумать не могли без ужаса, что для связи с Индией кораблям придется огибать всю Африку. Быстрое поражение беспомощного Египта в такой войне было, конечно, неизбежно, так же как свержение плохо просчитавшего последствия своей акции Насера, но тут внезапно было опубликовано заявление советского правительства о том, что СССР всеми имеющимися в его распоряжении вооруженными силами выступит на стороне Египта против «колонизаторов и агрессоров», причем не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. На самом деле СССР помочь Египту не мог ничем: флота, который бы мог противостоять французскому и английскому на ближайшем Черном море и близко не было, да было к тому же неизвестно, как пройти через Босфор. Никаких водородных бомб, ракет и бомбардировщиков для уничтожения Великобритании не было, а в блефе Хрущева еще и звучало что-то вроде – «Франция, конечно, побольше — для нее понадобиться бомб семь-восемь». Но никто на Западе не знал чем в действительности располагает зловещий коммунистический Советский Союз, угроза была принята всерьез и уже на следующий день Великобритания, Франция и Израиль объявили о прекращении военных действий. Насер был спасен и никогда не забыл об этом.
Вскоре в 1957 году возникла сходная ситуация в Сирии. Но если Насер во время войны сотрудничал с немецкими войсками Роммеля, а придя к власти, естественно, тут же посадил в тюрьмы всех египетских коммунистов (что не мешало улучшающимся отношениям СССР и Египта), то в Сирии к власти в результате переворота пришли социалистически настроенные офицеры, коммунисты в перевороте тоже принимали какое-то участие и по примеру Насера тут же стали национализировать европейскую собственность. Против откровенно левых у власти в Сирии на этот раз выступили Иордания и Турция, им совершенно не нравились левые экстремисты в соседней стране и за спиной у них были Соединенные Штаты.
Но Хрущеву очень понравилось блефовать и шантажировать. Он не стал выступать в этот раз с заявлением, что Советский Союз будет на кого-то сбрасывать водородные бомбы, чтобы защищать независимость Сирии, но для убедительности были выдвинуты все возможные военные соединения к границе Турции, а маршал Рокоссовский (и об этом было публично объявлено) был назначен командующим Закавказского военного округа. Начинать сухопутную войну со странами НАТО Хрущеву и в страшном сне не приходило в голову, да и СССР совершенно к ней не был готов. Хрущев надеялся только на блеф и шантаж. И они вторично сработали. Турция тут же отвела войска от границ с Сирией. Авторитет Советского Союза в арабском мире стремительно возрастал. Вскоре, в 1958 году и в Ираке возникла схожая ситуация и опять Советский Союз стал главным защитником арабов. Здесь Хрущев блефовал явно на грани войны. Столица Ирака — Багдад была центром антисоветского блока на Ближнем Востоке – «Багдадского пакта». В поддержку Нури Саида уже американцы высадились в соседней Иордании, вскоре к ним присоединились соединения британских войск. Хрущев опять направил угрожающие послания теперь президентам США и Франции и премьер-министру Великобритании, но подкрепил их переброской армейских соединений к границам Ирана и Турции и началом широкомасштабных военных учений и в Закавказье и в Туркестане. К тому же и Болгария объявила о начале учений, в которых приняли участие советские самолеты. Ко всему остальному Хрущев выехал с визитом в Пекин и было непонятно не выступит ли и Китай на стороне Ирака и СССР. И власть Абделя Касема удержалась. Противостояние Советского Союза и стран Запада до этого существовавшие лишь в границах Варшавского пакта перенеслось в совсем новый, еще два-три года назад вполне европейски ориентированный регион.
Впервые в большом и довольно далеком регионе Советский Союз получил подлинное международное влияние. Как развивались события в этой части света хорошо известно. Советский Союз без большого успеха вооружал арабские страны, но так же как поступавшие туда танки и самолеты главное оружие Хрущева — ядерный шантаж и блеф, становились все менее эффективными.
Американцы реально обеспокоенные угрозами Хрущева и испытанием в СССР межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 за эти годы построили разведывательный самолет с такой высотой полета, которая была недоступна и для советских ракет «земля-воздух». Полеты Y-2 над советской территорией возмущали Хрущева не столько потому, что разведке США становилось известно местонахождение советских военных предприятий и полигонов и что военная мощь государства могла оказаться уязвима для американских бомбардировщиков и ракет теперь уже расположенных и в Турции, и в Италии, и в ФРГ, гораздо хуже было другое — в войну Хрущев не верил и делал все, чтобы ее избежать — американские разведывательные полеты обнаруживали реальную слабость Советского Союза, показывали, что СССР не производит ракеты «как сосиски», что утверждал Хрущев и это подрывало его возможности блефовать во внешней политике, запугивать весь мир своей мнимой ядерной мощью. И Хрущева это приводило в ярость. Наконец, появились ракеты способные сбить регулярно летавшие над Советским Союзом Y-2, но их было считанное число и нужно было, чтобы Y-2 пролетел прямо над ракетной установкой. Перед самой встречей в верхах в Париже, от которой ждали важнейших соглашений в области политики «мирного сосуществования», самолет с летчиком Пауэрсом пролетел, наконец, прямо над советскими ракетами в районе Свердловска и его удалось сбить, Хрущев ликовал и перейдя все рамки здравого смысла потребовал от президента Эйзенхауэра извинений за полет разведывательного самолета. Все это не имело никакого смысла — никогда во взаимной разведывательной деятельности никто ни перед кем не извинялся, через год-два уже должны были появится и советские и американские разведывательные спутники, от которых, если не начинать войну еще и в космосе, ничего скрыть будет невозможно и никакие Y-2 уже почти не понадобятся. Эйзенхауэр, естественно, приносить извинения отказался, Хрущев сорвал встречу, собственно говоря, весь процесс установления мирных отношений между Востоком и Западом и возможности взаимного сокращения вооружений — Советский Союз претендовал на равную с США роль в международных отношениях, но со своим в три раза меньшим, чем у Америки, производственным потенциалом, да еще к тому же давно устаревшим оборудованием (лучшее было довоенным немецким, полученное по репарациям, остальное — американское начала 30-х годов и даже дореволюционное) гонки вооружений с Западом, конечно, не выдерживал. Однако,и надежды на договорные отношения были похоронены.
На молодого президента Роберта Кеннеди нажим и шантажи Хрущева в берлинском вопросе (а Хрущев как и Сталин хотел получить весь Берлин — превратив для начала его в демилитаризованный город, все связи которого будут контролироваться Германской Демократической республикой — было ясно, каким будет результат этой блокады, которую Хрущев по обыкновению сперва угрожал поддержать всеми вооруженными силами Советского Союза) подействовали еще меньше, чем на Эйзенхауэра. Закончив переговоры с Хрущевым, он приехал в Западный Берлин и произнес знаменитую фразу:
– Я — берлинец!
Пришлось строить берлинскую стену, чтобы хоть какая-то часть немецкой интеллигенции и просто профессиональных рабочих осталась в Восточной Германии.
Особенную ярость Хрущева вызвало предательство Пеньковского. Дело было не в том, что он сообщил об установке ракет с ядерным оружием на Кубе — это американцы в конце концов и сами увидели. Но располагая точными сведениями о числе советских ракет и другого стратегического оружия он разоблачал последнюю возможность блефа Хрущева — для аэрофотосъемок со спутников в ряде районов страны надули гигантские презервативы, сверху похожие на межконтинентальные ракеты. С их помощью еще можно было как-то говорить о примерном равенстве вооружений США и СССР и кому-то угрожать. Но Пеньковский лишил Хрущева и этой возможности.
И все это кончилось Кубой, с которой возможность ядерного шантажа Соединенных Штатов становилось вполне реальной. Тут впервые Хрущев и советское руководство убедились в том, нападать на СССР западный мир и впрямь не собирается, но защищать свою свободу от коммунизма, как защищал от фашизма, готов всеми силами и средствами.
Это был не просто крах советской политики блефа и шантажа, это было разрушение вульгарного, еще ленинского (основанного на изначальной большевистской наглости) мифа о том, что европейская цивилизация не способна себя защитить и сдастся на милость победителя при малейшей угрозе.
Как ясно из этого краткого очерка советской внешней политики, Хрущев, конечно, стремился получить все возможные политические и стратегические преимущества в мире, добиться равенства с Соединенными Штатами в политическом влиянии, но реальные возможности Советского Союза хорошо понимал и войны не хотел ни в коем случае. Под конец он прямо говорил о том, что должна победить та государственная система, которая сможет создать для своего народа лучшие условия жизни. Забавно, что обещанные Хрущевым в 1960 году показатели жизненного уровня советского населения при обещанном ему через 20 лет коммунизме, были равны жизненному уровню населения Соединенных Штатов в 1960 году. То есть получалось, что американцы уже построили коммунизм. А потому Хрущев, осваивая целину, призывая сажать кукурузу и применять торфо-перегнойные горшочки, догнать и перегнать Америку по потреблению мяса, молока и масла, не просто стремился оттеснить Маленкова от наиболее популярных в стране программ повышения жизненного уровня населения, но и впрямь все это считал важнейшей целью своей жизни. Но для нищей русской деревни нужны были большие капиталовложения, изнуренным, заморенным в коммунальных квартирах горожанам нужны были хоть какие-то жилища и Хрущев в отличие от Сталина не был готов строить армию на трупах людей доведенных до людоедства. Как мог он пытался экономить на военных расходах и этого ему не могли простить ни сами военные, ни по-прежнему мощный, а теперь не удерживаемый страхом возможных расстрелов военно-промышленный комплекс.
Уже Жуков, будучи министром обороны, после Женевского совещания провел значительное сокращение армии, а находясь в сложных отношениях с адмиралом Кузнецовым — министром военно-морского флота, донельзя сократил морякам финансирование. И все это бесспорно согласовал с Хрущевым.
По рассказу Сергея Хрущева, адмирал Кузнецов пришел к Никите Сергеевичу с гигантским по объему и по расходам планом перевооружения флота. Хрущев задал только один вопрос:
Будет ли в результате советский флот мощнее американского?
Нет, – честно ответил адмирал.
Тогда зачем его строить? – Спросил Хрущев и план был похоронен.
Сахаров описывает подобную критику Хрущевым Устинова и авиаконструкторов Яковлева и Туполева:
«Туполева Хрущев обвинил в фантазерстве и гигантомании. В это время Хрущев, по-видимому, хотел в какой-то мере ограничить спектр военно-технических усилий и капиталовложений, сконцентрировавшись на наиболее эффективных направлениях. В этом, как и в других своих начинаниях, он, как я думаю, встречал со стороны определенных бюрократических кругов глухое сопротивление, почти саботаж».
Окончательный отказ Туполеву, которого Хрущев обвиняет в «гигантомании» – на самом деле это отказ в средствах реальному руководителю уже очень мощного ВПК страны Дмитрию Устинову и Министерству обороны на строительство стратегических бомбардировщиков при концентрации средств у ракетчиков и ядерщиков и большой общей экономии в расходах. Рассказ Сахарова нужно отнести к 12-13 апреля 1960 года, когда происходило совещании по ракетной технике.
В результате неоднократных сокращений армия при Хрущеве не просто вдвое сократилась численно, но в конце концов были полностью уничтожены три рода войск:
надводный морской флот;
тяжелая дальняя бомбардировочная авиация;
тяжелая артиллерия.
Хрущев решил, что межконтинентальные ракеты окажутся дешевле и эффективнее тяжелых бомбардировщиков, подводные лодки с атомными двигателями — дешевле и крейсеров и авианосцев, к тому же в своих дальних походах заменят многочисленные американские военные базы, расположенные на границах СССР, а ракеты среднего радиуса действия — бесспорно должны заменить тяжелую артиллерию. Эта реформа была чудовищным потрясением для армии, для множества высших офицеров, выросших при Сталине и прошедших Отечественную войну. В военных кругах, тогда и родилась формула:
Хрущеву не жить!
С точки зрения большинства военных стратегов реформы Хрущева на практике делали Советский Союз практически безоружным, не имеющим реально необходимой действующей армии. Ракетно-ядерное оружие на которое основную ставку делал Хрущев, на практике оказывалось оружием, точнее доводом, чисто политическим, не применимым из-за чудовищной разрушительной мощи в реальных военных действиях, не дающим возможности одержать военную победу пусть даже в местном, имеющем тактическое значение противостоянии.
Что же касается «большой» войны в Европе, к которой открыто готовился и стремился поскорее начать советский Генеральный штаб, то и здесь непреодолимым (пока) препятствием был Никита Хрущев и его последовательная (а не демагогическая) убежденность в том, что войны допускать нельзя.
К сожалению, Сергей Хрущев не датирует в своих воспоминаниях характерный принципиальный разговор отца с начальником Генерального штаба маршалом Гречко и потому непонятно произошел он до или после Карибского кризиса. Так или иначе, он все позиции ясно расставил по своим местам.
Сергей Хрущев вспоминает:
«Сначала я подумал, что Андрей Антонович шутит. Но нет. Глаза его смотрели серьезно, без обычного лукавства. Мысли свои он излагал точно, без запинки, видно, каждый шаг тщательно обкатали в штабе сухопутных сил.
Я не запомнил, почему он считал целесообразным нанести удар, начать войну. Политический аспект его не особенно волновал, генерал жонглировал танками, самолетами, пушками. Здесь, по его мнению, американцам с нами не совладать.
Отец насупленно слушал разглагольствования гостя. А тот, приняв молчание хозяина за одобрение, ринулся в бой.
По расчетам Гречко, на второй день после начала боевых действий он с ходу намеревался форсировать Рейн. В его тоне звучало ликование, голос прямо-таки раскатывался победными литаврами. Отец изумленно глядел на двухметрового генерала. Подобного фанфаронства он не ожидал даже от Гречко. Тем не менее он молчал, видимо решив проверить, как далеко простирается фантазия у его собеседника.
Гречко заливался соловьем. На пятый или шестой день он овладел Парижем и без задержки двинулся дальше, к Пиренеям, оставив без внимания Великобританию. Горы его тоже не остановили, он перемахнул их с ходу и остановился только на берегу Атлантического океана. Тут генерал замолчал, перевел дух и вопросительно поглядел на отца. Он весь светился восторгом победителя.
Отец все молчал. Так продолжалось, наверное, минуты две. Затем он снова поднял голову.
— А дальше что? — глухо спросил отец. Гречко продолжал улыбаться.
— А дальше что вы собираетесь делать? — начинал сердиться отец.
— Дальше?… — переспросил генерал и как-то неуверенно произнес: — Дальше… Все…
Он развел руками.
— Что, все? — продолжал напирать отец. — Какие ваши предложения по дальнейшим действиям? Вы же докладываете Председателю Совета министров!
— По дальнейшим — никаких, — отрапортовал генерал.
Отец просто взорвался. Последовал грандиозный разнос. Я отошел в сторону, но и на почтительном расстоянии слышалось каждое слово.
Отец бушевал. Он не понимал, как подобные мысли могли прийти в голову современному генералу, а тем более, как он посмел со своими сумасбродными идеями соваться к главе правительства.
— Вы что, не слыхали об атомном оружии? — восклицал отец. — Какое наступление? Какой Париж? В Наполеоны метите? От вас в первый же день и мокрого места не останется!
Гречко только переминался с ноги на ногу, на лице у него застыло выражение провинившегося школьника.
— Мы исходим из оборонительной концепции. А тут доморощенный агрессор выискался. На вас не распространяются решения Совета обороны? — отец постепенно остывал. — И вообще, следует разобраться, чем вы там занимаетесь в своем штабе. Вам что, совсем делать нечего? — громыхнули последние громовые раскаты.
Гречко мгновенно уловил, что гроза проходит. На лице у него появилась улыбка шкодника, вдруг уловившего, что наказание его миновало.
— Вы что, на самом деле воевать собираетесь? — уже с некоторым любопытством переспросил отец.
— Да нет, — промямлил Гречко.
— Так да или нет? — не унимался отец.
— Нет, — четко отрапортовал Гречко.
— Тогда чтобы я подобных прожектов больше не слышал, — строго сдвинул брови отец и, остывая, добавил: — До Атлантики он, видите ли, дойдет…
Гречко отделался разносом. Другому подобная фантазия стоила бы должности, а не исключено, и звания»19.
Вероятно, план изложенный маршалом Гречко Хрущеву, находился в связи с материалами, которые находим во второй книге издания «Империя ГРУ» и может быть датирован именно таким образом:
«5 февраля 1962 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 20 августа 1961 г. «О подготовке кадров и разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских отрядов» директивой Генштаба командующим военных округов поручалось отобрать 1700 офицеров запаса, сформировать из них бригаду и провести с ними военные сборы в течение месяца. Директива Генштаба от 27 марта 1962 г. утвердила проекты штатов бригад спецназа в мирное и военное время. К концу 1962 г. начали формироваться в составе войск округов (Белорусского, Дальневосточного, Закавказского, Киевского, Ленинградского, Московского, Одесского, Прибалтийского, Прикарпатского и Туркестанского) кадрированные бригады специального назначения (БрСпН)»20 (все это приграничные военные округа).
Ниже в той же книге находим описание задач:
«О задачах, которые ставились перед бойцами спецназа ГРУ, можно судить по словам одного из старших офицеров частей СпН:
«В случае войны или незадолго до нее из запасников, прошедших соответствующую подготовку, создаются специальные группы (фактически — это костяки партизанских отрядов), которые „оседают“ на оккупированной территории. Бригады ГРУ „работают“, опираясь на эти отряды и нелегальную агентуру ГРУ. Спецназ скрытно выбрасывается в тыл врага и громит заранее намеченные важные воинские объекты: ракетные установки, штабы и командные пункты, армейские соединения, склады боеприпасов, вооружения, аэродромы, военно-морские базы. К примеру, в Европе бригада СпН, стоявшая в Германии, в час „Х“ должна была уничтожить стартовые площадки американских „Першингов“. „Зона ответственности“ спецназа ГРУ распространяется и на гражданские объекты стратегического значения: электростанции, плотины, военные заводы и промышленные предприятия. Кроме того, мы ведем разведку вражеских войск с нелегальных позиций, проводим активные мероприятия в тылу противника: диверсии, захват „языков“ и доставку их через линию фронта, террористические акции против командования противника и представителей власти.
Что может спецназ ГРУ? Например, небольшая группа диверсантов-разведчиков (человек 15–20) в состоянии „поставить на уши“ тыл целой армии, а бригада — и вовсе будет держать в напряжении весь фронт. Современного разведчика-спецназовца обучают диверсионно-подрывной работе (подготовленные боец может самостоятельно пустить под откос эшелон, взорвать ракетную шахту, в считанные минуты заминировать склад с горючим, умеет изготовить взрывчатку даже из общедоступных компонентов), прыжкам с парашютом, рукопашному бою, снимать часовых (те даже и пикнуть не успевают), вербовать агентуру и работать с ней (офицеры должны иметь хорошую языковую подготовку), выживать в экстремальных условиях».
…
1957 г. — на базе ОРСпН организуются отдельные батальоны специального назначения (БСпН).
1961 г. — формирование в составе войск военных округов и групп войск отдельных бригад специального назначения (БрСпН)».
Любопытно, что все эти тексты звучат крайне двусмысленно, хотя и идет речь о важности языковой подготовки отставных офицеров, которые должны стать костяком партизанских отрядов, очень трудно понять как они могут «осесть» на территории других стран, не будучи при этом нелегалами ГРУ, которые упоминаются отдельно. В связи с этим сам термин «оккупированный территории» начинает звучать уже как-то неясно — предполагается ли, что это территории оккупированный советской армией или напротив допускается возможность, что это оккупированный после начала войны территории СССР. Так или иначе, похоже, что подготовка грядущей войны велась Генеральным штабом полным ходом и возможная идея (надежда) Хрущева на установку ракет на Кубе была попыткой отвлечь Генштаб хотя бы от войны на территории Европы.
Насколько это можно понять, и план установки ракет на Кубе, разработанный благодаря авантюристу Кастро, который готов был рисковать жизнью всего населения острова и прямо согласованный с его братом Раулем специально приехавшим в Москву, был придуман Хрущевым, конечно, не с целью нападения на США и, может быть, даже не с целью создания военного паритета с Америкой, но лишь как последняя (и неудачная) попытка Хрущева доказать оправданность своего понимания военного противостояния Западу. И к тому же, оправданность своей военной доктрины. К тому же это был и самый экономный способ достижения хотя бы формально упоминаемого паритета, который должен был хоть как-то успокоить военным успехом влиятельных военных. Как вспоминал Гришин: «Секретари ЦК и все члены Президиума ЦК всесторонне обсудили решение о вводе ракет на Кубу и каждый подписал решение об этом». Размещение ракет и легких бомбардировщиков на Кубе требовало расходов лишь для их доставки и установке на «остров свободы». Но при этом не было нужды ни в разработке новых фантастических по своей стоимости средств доставки вооружений к территории «главного противника», ни еще более чудовищных по своей стоимости новых видов вооружений. Ведь в это время руководству страны были предложены по меньшей мере три не менее сокрушительных для Соединенных Штатов проекта человеколюбивых советских академиков:
Лозино-Лозинский настаивал на немедленном начале войны в космосе для чего предлагал начать постройку по его проекту космических истребителей искусственных спутников земли «вероятного противника».
Академик Владимир Челомей предлагал с помощью сверхмощной по тем временам, разрабатываемой им ракеты УР-200 (универсальный ракетоноситель), не только выводить в космос сразу группу маневрирующих спутников для уничтожения космических объектов, но и запустить в космос и подвесить над Соединенными Штатами один или несколько спутников со стамегатонными водородными бомбами, которые по сигналу с Земли в любой момент могут быть сброшены на территорию «главного противника».
Андрей Сахаров предложил иначе использовать сконструированные им стамегатонные водородные бомбы: создать громадные торпеды с ядерными двигателями, которые будучи выпущены с тяжелых подводных лодок на расстоянии трехсот-четырехсот километров от важнейших морских портов Соединенных Штатов, пробьют любые заграждения и дотла уничтожат и порты и флот противника и сотни тысяч (скорее — миллионы) людей попавших в зону затопления: до ста километров от побережья распространится волна высотой до десяти метров.
Итак, мы видим, что Хрущев выбрал не только самый дешевый, без постройки тяжелых бомбардировщиков по проекту Туполева, без создания новой гигантской ракеты по проекту Челомея, без новых чудовищных подводных лодок необходимых для проекта Сахарова, но и самый гуманный: без войны в космосе и стамегатонных водородных бомб, из всех проектов, переданных для обсуждения военными и конструкторами. Но Генеральный штаб не устраивало главное — Хрущев, действительно, не хотел войны. Официальный историк уже андроповского КГБ Олег Хлобустов потом напишет: что ошибкой Хрущева было принятие единоличного решения о выводе советских ракет и бомбардировщиков с Кубы, а ошибкой современных историков является недооценка событий 1962 года, которые были не менее важны, чем история Второй мировой войны21. Что касается первого, то историк не совсем прав: в дни Карибского кризиса Президиум ЦК заседал ежедневно, оставаясь иногда и на ночь и решение о вывозе оружия принималось коллективно, не одним Хрущевым. Но, возможно, без консультаций с военными, которых совершенно не пугали постоянно дежурившие в воздухе американские тяжелые бомбардировщики, готовые лететь через Северный полюс к Советскому Союзу с ядерными бомбами на борту. В генеральном штабе считали, что нужно получить хотя бы Западный Берлин в качестве компенсации за вывод ракет, не по собственной же инициативе на этом настаивал сотрудник КГБ Александр Феклисов ведя в Вашингтоне первоначальные доверительные переговоры о разрешении кризиса.
Зато понятно, что имеет в виду Хлобустов, говоря и о недооценке значения кризиса. После него началось активное советское вооруженное проникновение в ближайшее подбрюшье США — в Никарагуа, Сальвадор, Боливию, Чили. Кубинские войска (в дополнение к советскому оружию и советским советникам) действовали в Анголе и Эфиопии, к коммунистическому Вьетнаму прибавились Лаос и Камбоджа — то есть началось массированное наступление СССР во всем мире, не менее важное, чем оккупация Восточной Европы в результате Второй мировой войны. Понятно, что на этом фоне советским маршалам казался совершенно ничтожным первый достигнутый Хрущевым результат: сохранение коммунистической Кубы и вывод американских ракет из Турции, да и о нем нельзя было сразу же объявить. А сокращенная, по мнению военных, донельзя советская армия, да еще и при таком осторожном, как Хрущев главнокомандующем, не была способна вести и эти локальные войны по всему миру.
На самом деле трудно сказать была ли в 1957 году так внятно Хрущевым сформулирована ориентация на отказ от обычных вооружений и насколько бы Жуков захотел поддержать агрессивные устремления многих других маршалов и уже позднейшего Генерального штаба, то есть каким могло бы оказаться противостояние Хрущева и Жукова в дальнейшем. Но уже и в 1957 году для Хрущева после расстрела Берии, то есть уже с 1954-55 годов Жуков оставался сильным, а следовательно, и наиболее серьезным соперником в руководстве страной. Молотову, Маленкову, Булганину для того, чтобы противостоять Хрущеву нужно было объединиться, действовать скопом. Жукову, как и Берии, ни с кем объединяться было не нужно — он сам представлял реальную и мощную силу в стране, привыкшей к единоличной власти и весь вопрос был в том, когда, как и при каких обстоятельствах эта сила захочет (или будет вынуждена) воспользоваться своими возможностями, чтобы свергнуть Хрущева. Вероятно, Жуков пока и не хотел этого, но хрущевские реформы, сложные отношения с армией, которая и приняла в конце концов активное участие в свержении Хрущева, требовали свободы рук. Скорее всего Хрущев был бы отправлен в отставку при участии Жукова все же на несколько лет раньше, чем это произошло без Жукова, но по инициативе других маршалов.
Кроме отдельных конкретных слов и действий Жукова вызывавших подозрение и опасения у Хрущева, которые ниже будут перечислены, было одно, основное, стратегическое расхождение между ними, определившееся на ХХ съезде, хотя еще год-два назад не только не существовавшее, но объединявшее Хрущева и Жукова в их борьбе с Маленковым. Вернемся опять к начальному периоду борьбы Хрущева за верховную власть в стране.
12 марта 1954 года Маленковым была произнесена без преувеличения историческая речь перед избирателями Ленинградского избирательного округа в Москве.
– «Неправда, что человечеству остается выбирать лишь между двумя возможностями: либо новая мировая бойня, либо так называемая холодная война. Народы кровно заинтересованы в прочном укреплении мира. Советское правительство стоит за дальнейшее ослабление международной напряженности, за прочный и длительный мир, решительно выступает против политики холодной войны, ибо эта политика есть политика подготовки новой мировой бойни, которая при современных методах ведения войны означает гибель мировой цивилизации.
Наша позиция ясна. Любой спорный вопрос в нынешних международных отношениях, как бы он ни был труден, должен решаться мирным путем».
Именно Маленков ставил крест на агрессивной политике Сталина и опять блистательно опережал Хрущева, да собственно и всех политических деятелей в мире и заявлял об отказе от военного решения любых спорных вопросов. Только лучшие физики-ядерщики подходили в то время к пониманию глобальной опасности для человечества ядерной войны, Курчатов передал Хрущеву свою статью об этом, на которую тот не обратил никакого внимания. Борьба с Маленковым для Хрущева была в то время гораздо важнее, чем «ядерная зима», выживание всего человечества.
Сперва Молотов «указал» Маленкову на несоответствие его заявления с традиционной сталинской доктриной о том, что в будущей войне погибнут только развязавшие ее империалисты и весь мир станет социалистическим. Естественно, Хрущев тут же поддержал Молотова. И хотя Маленков, понимая какое орудие против себя дал верным сталинистам Хрущеву и Молотову, вскоре покаялся в своей идеологической ошибке — было уже поздно. Через год на пленуме 25 января 1955 года он был отправлен Хрущевым в отставку в том числе за это выступление и другую свою идеологическую ошибку — заявление о том, что для повышения жизненного уровня населения необходимо обратить особое внимание на развитие легкой промышленности. То есть как раз то, к чему уже в ноябре того же года придет и Хрущев, обсуждая планы очередной пятилетки, а в 1962 году даже сделает одной из основ новой программы партии.
Но это второе крамольное следование Хрущева за Маленковым оставалось скрытым в аппарате ЦК и обнаружилось лишь через пять лет, когда о Маленкове уже забыли, а вот о «мирном сосуществовании» социалистической системы и капиталистической, да еще дополнив его совсем уж ревизионистской идеей о возможности мирного, парламентского перехода от капитализма к социализму Хрущев заявит всего через год уже с трибуны ХХ съезда партии. Но если переход к социализму возможен мирным путем, то и война перестает быть необходимой, становится почти ненужной. Хрущев закладывает основы своей политики блефа и шантажа постоянного балансирования на грани войны, но по сути дела ее недопущения ни в коем случае.
Однако, главным сторонником Хрущева и Молотова в операции с отставкой Маленкова был маршал Жуков, который и готовил армию к войне, причем к войне сталинской, ядерной. Именно по его инициативе и под его руководством были проведены гигантские военные маневры на Тоцком полигоне Оренбургской области с настоящим взрывом 40 килотонной атомной бомбы, то есть ничем не защищенные советские солдаты были посланы в район взрыва бомбы, более чем в два раза превосходящей взорванную в Хиросиме. Сколько солдат было облучено и впоследствии погибло до сих пор не известно.
Хрущев к ХХ съезду почти проникся взглядами Маленкова, однако, нет никаких оснований считать, что и Жуков за этот год изменил свои взгляды и стратегические планы Советской армии. Таким образом можно думать, что столкновение Жукова и Хрущева по основным, принципиальным, стратегическим воззрениям в ближайшем будущем было неизбежным. Жуков дважды (в 1955 и 1957 годах) помог Хрущеву убрать Маленкова, но теперь могла настать очередь и самого Хрущева. Хрущев понимал это и поспешил убрать Жукова.
Первую ошибку совершил Жуков, уже обнажив при защите Хрущева от переворота, подготовленного «антипартийной группой», свои возможности.
По воспоминаниям кандидата в члены Президиума, первого секретаря ЦК КП Узбекистана Н.А. Мухитдинова:
«В кабинете Хрущева на Старой площади собрались Суслов, Жуков, первый секретарь МГК КПСС Е.А. Фурцева.
– Вот я теперь никто — начал Хрущев и после некоторой паузы продолжил: – Не хотелось бы уйти с такими обвинениями, с таким решением… Давайте договоримся: уходить мне из ЦК или найдем выход?
– Вам не надо уходить с поста первого секретаря, – твердо заявил Жуков. – А их я арестую, у меня все готово»22.
Вскоре выяснилось, даже и без ареста, что у Жукова под рукой военная авиация и именно он, куда больше, чем председатель КГБ Серов, да все секретари ЦК, может сделать для смены власти в стране.
Довольно скоро выяснилось, что Жуков, проводя сокращение армии в первую очередь увольнял политработников, ни во что ни ставил начальника Главного политического управления армии (то есть партийный за ней надзор), а политработники даже не допускаются на совещания командного состава армии. Кроме того настаивал на упразднении должностей членов военного совета (т. е. контролеров от ЦК при военных округах) при командующих округах. Попытался вписать в положении о министерстве обороны пункт о том, что главнокомандующим в стране является не глава государства, а министр обороны, а в августе 1957 года пришел к Хрущеву с требованием о подчинении Министерству обороны Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности. Было и множество выговоров и угроз командующим округам Гречко, Еременко и другим, за то, что они приезжали встречать Хрущева при его поездках по стране на территории своих округов. Уж совсем подозрительным показалось Хрущеву создание Жуковым без ведома ЦК КПСС школы диверсантов в две с лишним тысячи слушателей, которые и без того уже имели законченное среднее образование и прошли военную службу по призыву. Обучение в ней должно было длиться еще 6-7 лет, то есть в полтора раза дольше, чем в военных академиях, а стипендии были определены — много выше.
А это уже было даже в гораздо более мощной форме именно то, что сделал Лаврентий Берия 30 мая 1953 года создав тоже втайне от Президиума ЦК подчиненный только ему 9-й разведывательно-диверсионный отдел (Бюро специальных заданий) под командованием Судоплатова, который называет его «бригадой спецвойск особого назначения». Ну, а в том, что Берия готовился к захвату власти у Хрущева сомнений не было.
Совершенно очевидно, что именно это и было причиной срочной реализации Хрущевым этой очень важной для него интриги. Жуков был послан с официальным визитом в Югославию и Албанию, а в стране предстояли крупномасштабные маневры, где танки должны были по дну форсировать Днепр. Командовал ими главнокомандующий сухопутных войск Родион Малиновский, приглашены были по обыкновению все командующие военными округами, приехал и Хрущев, как бы еще и отдохнуть и поохотиться, взяв с собой из Москвы Аристова и Брежнева, из Ленинграда приехал первый секретарь и член президиума ЦК Фрол Козлов, из Ташкента приехал Мухитдинов, как и первый секретарь Украины Кириченко тоже член Президиума ЦК. После учений, как вспоминал Мухитдинов, Малиновский по списку пригласил нескольких генералов и всех командующих округов на встречу со столь солидной группой партийного руководства, где прямо было сказано, что Жукова надо снимать. В армии многие его не любили и никто защищать особенно не стал. И Хрущев стал уверен в поддержке армии в случае увольнения Жукова. Вернувшись с маневров, где он договорился о предстоящей отставке Жукова с командующими военных округов, а ездил якобы на охоту, Хрущев самодовольно сказал:
Я охотился на очень крупную дичь.
Хрущев тут же уволил и понизил в звании начальника Генерального штаба Сергея Штеменко,
с ведома которого и тайком от ЦК создавалась школа диверсантов. Дальше можно было 22-23 октября устраивать собрание партийного актива центральных управлений Министерства обороны СССР Московского военного округа и Московского округа ПВО. Хрущев выступил с обвинениями дважды, а 26 октября уже состоялось решение о снятии Жукова на Пленуме ЦК, куда прямо с аэродрома привезли вернувшегося из Югославии и Албании ничего не подозревавшего маршала.
Ко всему этому, если отвлечься от по-видимому с 1954 года существовавшего у Хрущева плана кардинальных, очень разносторонних и одновременных реформ в стране, а оценивать внутрикремлевскую деятельность Никиты Сергеевича в первую очередь, как успешный перехват политики реабилитации и освобождения заключенных и умеренного антисталинизма в 1953 году у Лаврентия Берии, а заботы о сельском хозяйстве и политики повышения жизненного уровня населения страны в 1954-55 годах у Маленкова, то можно думать, что планировавшийся в 1956 году специально антисталинский пленум ЦК КПСС осенью 1956 года (после ХХ съезда партии) не был проведен не только из-за сильной оппозиции антисталинизму и сверху и снизу, но еще и потому, что позиции Хрущева на нем — даже после знаменитой, эпохальной речи на съезде, могли оказаться гораздо более шаткими, чем у маршала Жукова. Если Хрущев изображал себя, да на самом деле и был, беспомощным и беспрекословным помощником Сталина, то Жуков был героем, победителем в Отечественной войне, которого после войны преследовал Сталин, а близких ему людей беспощадно расстреливал и гноил в лагерях. Выступление Жукова на предполагавшемся пленуме (текст его сохранился) должно было стать гораздо более жестким по отношению к Сталину — лидеру страны и полководцу, чем это позволил себе на ХХ съезде Хрущев, и гораздо более реалистическим о поражениях армии в первые годы войны, чем это позволяла себе советская пропаганда. Да и к самому ХХ съезду, зная о готовящемся докладе Хрущева, Жуков хотел провести внеочередной военный парад на Красной площади, чтобы ясно показать на чьей стороне армия.
На пленуме в 1957 году Жуков не просто поддержал Хрущева и помог собрать на военных самолетах членов ЦК, которые осудили «антипартийную группу», но и о самих ее членах он сказал беспощадно как никто:
Мы верили этим людям, носили их портреты, а с их рук капает кровь. Если бы люди знали правду, они бы их камнями закидали… Это уголовное преступление!
То есть Жуков заговорил о суде, да еще о суде открытом, над советскими лидерами. А это тоже совершенно не входило в планы Хрущева. В 1957 году аппарат КПСС был его главной и единственной опорой и не только у членов Президиума ЦК, но и у многих других партийных руководителей руки совсем не были чисты от крови. Хрущев хорошо понимал, что только борьба или хотя бы очень жесткая чистка всего партийного аппарата и может создать условия для судов, которых требует Жуков. Да к тому же маршал, будучи до войны командующим Киевским военным округом, знал о самом Хрущеве, руководившем тогда Украиной, многое из того, что в документальных свидетельствах, может быть, и не сохранилось, но свидетели, чудом выжившие, еще оставались. И тогда уже будущее самого Хрущева становилось очень шатким, близким если не к Берии и Абакумову, то уж во всяком случае к Молотову и Маленкову.
Кроме того не нужно думать, что Суслов, выступая на Пленуме ЦК КПСС 28 октября 1957 года, посвященном делу Жукова, слепо исполнял поручение Хрущева и не имел никакой собственной позиции. Мало того что Суслов предлагает освободить генерала армии Штеменко от руководства ГРУ (Разведывательного управления генштаба) за то, что он без разрешения ЦК организовал отряды специального назначения, но и оценивая роль самого Жукова Суслов говорит, в казалось бы в почти безликом докладе, очень важные для себя вещи:
«Конечно, у всякого человека бывают ошибки, они могут быть и у т. Жукова. Но в данном случае мы имеем дело не с отдельными ошибками, а с системой ошибок, с определенной линией бывшего министра обороны, с его тенденцией рассматривать советские Вооруженные Силы как свою вотчину, с линией, которая ведет к опасному отрыву Вооруженных Сил от партии и отстранению Центрального Комитета от решения важнейших вопросов, связанных с жизнью армии и флота.
Я проиллюстрирую это целым рядом фактов. Вы знаете, товарищи, что у нас существует Совет Обороны страны. При Совете Обороны создан Военный Совет, в который входят члены Президиума ЦК, все командующие округами, а также командующие флотами. Тов. Жуков не счел нужным ни разу собрать этот Военный Совет. Больше того, месяца три тому назад министр обороны внес предложение в ЦК ликвидировать данный Совет за ненадобностью.
Спрашивается, почему? Тов. Жуков, видимо, не хочет, чтобы Центральный Комитет ближе знал жизнь Армии, деятельность министра и командующих. Естественно, что Президиум Центрального Комитета не принял это политически неправильное предложение министра обороны.
Не менее вредным было предложение, внесенное т. Жуковым в ЦК, о пересмотре функций Военных Советов в округах. Современные вооруженные силы — это громадный и весьма сложный организм. В этих условиях важную роль в жизни войск должны играть Военные Советы, располагающие правом рассмотрения и решения всех важнейших вопросов жизни и деятельности Армии и Флота и несущие ответственность перед Центральным Комитетом, Правительством и министром обороны.
Между тем, т. Жуков предлагал превратить эти Военные Советы в бесправные, совещательные органы при командующих. Тов. Жуков при этом не смущался тем, что членами Военных Советов округов у нас являются и секретари областных, краевых комитетов партии и Центральных Комитетов компартий союзных республик. Его, видимо, вполне устраивало, чтобы секретари обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик состояли бы «при командующих» и не имели бы полноправного голоса в Военных Советах»23.
Во-первых, Суслов, как и Хрущев, не только против возможной военной диктатуры в стране, но к тому же в отличие от Хрущева, он еще и очень осторожен, боится вообще каких бы-то не было решительных перемен в такой хрупкой с его точки зрения государственной конструкции, как Советский Союз. К тому же, что самое важное для Суслова, усиливая роль политического управления армии, он создает свой собственный механизм влияния на вооруженные силы. На примере Жукова показывает и всем другим маршалам, что с ними может произойти, если они выйдут из под партийного т. е. его собственного контроля. Если в это время Суслов уже и был вторым по значению после Хрущева человеком в стране, но связано это было исключительно с его осторожной, но последовательной поддержкой Хрущева во всех его демократических начинаниях, то после отставки Жукова, Суслов приобретает ту самую уже почти независимую от Хрущева, а потом и Брежнева и даже Андропова с Устиновым, силу, которая вызывает удивление у всех историков, но реально делает его вторым человеком в стране, собственно говоря, только потому, что он и не хочет быть первым.
При Жукове все это было невозможно. Жуков совершенно не был ручным и управляемым. Среди маршалов Отечественной войны он был одним из наиболее жестких, если не просто жестоких и, я думаю, Хрущев просто боялся его. Впрочем, Микоян прямо в этом признался.
А когда кто-то маршалу пригрозил Серовым и КГБ, Жуков сказал прямо, что ни от Серова, ни от Лубянки и следа не останется, если он пожелает. Армия заметно становилась неподконтрольна и понятно, что это совершенно не устраивало Хрущева.
И хотя пораженный своей отставкой Жуков сказал Хрущеву по телефону:
– Ты потерял друга, – Хрущев, по-видимому, считал, что в политике, в управлении страной друзей не бывает. И министром обороны стал лично обязанный ему, возможно жизнью, маршал Малиновский. Что, однако, через семь лет Хрущеву не помогло — верность политиков, в том числе и из военных, он оценивал реалистически.
В 1964 году он, возможно, решил, что Жуков был прав, а скорее решил, что если опять удастся победить в Кремле, вернуть его в Министерство обороны.
И опять возникает все тот же вопрос, на который, как на любое сослагательное наклонение в истории нет и не может быть ответа. Когда армия подтолкнула бы Жукова к руководству в стране? Каким было бы это руководство и на кого начал бы опираться Жуков при его сдержанном отношении к партийному руководству? Не началась бы перестройка затеянная Андроповым-Горбачевым в восьмидесятых годах, повторявшая идеи сперва Берии, потом в другом варианте Шелепина и предполагавшая сменить КПСС структурами КГБ, на двадцать лет раньше — в 60-е годы, с замещением партийных структур управления в Советском Союзе — военными? Все это любопытные, но не относящиеся к реальной истории вопросы. Существенно только одно: Хрущев не доверял и не вступил в долговременный союз ни с кем из влиятельных членов советского руководства, кто в той или иной степени разделял его планы кардинального реформирования страны.
Лаврентий Берия был расстрелян — он, конечно, до конца опирался бы на советские спецслужбы, но было бы это хуже, чем Андропов-Горбачев-Путин трудно сказать. Георгий Маленков вряд ли удержался бы под напором партийного аппарата и гораздо более жесткого Вячеслава Молотова, поэтому скорее всего при всех благих пожеланиях мы получили бы Брежнева на семь лет раньше. Каким правителем был бы Жуков трудно представить — в советской истории нет аналогов. Существенно однако то, что как раз в те годы, когда Георгий Жуков был сперва заместителем министра, а потом и министром обороны Советского Союза (в 1956-1957 годах) Хрущев совершил самую серьезную ошибку в своей жизни — в той или иной ошибку в конечном итоге приведшую к гибели Советского Союза, а до этого — к невозможности реализации всех самых человечных планов самого Хрущева, и Жуков не мог не принимать в этом какого-то участия, а следовательно — и ответственности за это.
На первый взгляд этой катастрофической ошибкой были три подряд блестящих, удачных блефа-шантажа Хрущева на Ближнем Востоке. Наследники Сталина в большинстве своем не хотели готовившейся им третьей мировой войны и уж во всяком случае в первые год-два им точно было не до нее. Хрущев и Маленков вступили в соревнование между собой, чьи планы хотя бы минимального улучшения жизни катастрофически нищего и голодающего советского народа окажутся более удачными (для Хрущева имело большое значение — и более быстрыми) и приведут страну в мало-мальски нормальное состояние.
Генерал Серов, сократив в первый же месяц после выделения из созданного Берией монстра МВД Комитета государственной безопасности, сократил его штаты на 20% (и это было не последнее сокращение), одновременно урезал множество других расходов, то есть занялся серьезной экономией средств.
Георгий Жуков сократив армию с 1953 до 1957 года в несколько приемов почти на два миллиона человек, что соответствовало заявлениям Хрущева на Женевском совещании и в Советском Союзе даже появилось новое сокращение — ЖЖС – «жертва женевского совещания», хотя и озаботился, чтобы оставшиеся получали оклады во-время, но военные пенсии тоже сократил, приблизив к гражданским и в общем экономия средств на армии составила десять миллиардов рублей.
Все это и создало первоначальные возможности для необходимых стране реформ. Возможно все это продолжалось бы и дальше таким же образом, но «удачный» блеф Хрущева довольно неожиданно вывел Советский Союз далеко за пределы той черной дыры, которой он и являлся вместе с оккупированными им странами Восточной Европы и внезапно превратил его из региональной державы в страну с появившимся государственным интересами, далеко выходящими за границы Ялтинских и Тегеранских соглашений. Сталин реально готовивший «большую войну», в успехе которой он был уверен, до ее начала в региональных конфликтах был очень осторожен, если не трусоват, сам помог де Голлю, а не коммунистам придти к власти во Франции, оставил без помощи греческих коммунистов, тут же вывел советские войска из Ирана, как только там появился английский корпус, да и в Корее, на войну в которой Ким Ир Сен его убедил согласиться, советских летчиков одевали в корейскую или китайскую форму и им категорически запрещалось вести переговоры с земной службой в воздухе и между собой по-русски.
Хрущев в отличие от Сталина воевать ни в коем случае не собирался. Все его основные планы были связаны с возрождением сельского хозяйства в Советском Союзе, повышением понемногу жизненного уровня населения, все расширявшимися объемами жилищного строительства, чем он особенно гордился. Но попав впервые в Великобританию в 1956 году повел себя совершенно как нищий мальчишка увидевший соседа с дорогими и недоступными ему игрушками. Мальчишка бы сказал, что у него дома — брат, который всех сильнее и все его боятся, обиженный английским богатством Хрущев как бы между делом заметил (мы это уже упоминали), что для уничтожения такой небольшой страны, как Англия хватит пяти ракет с водородными бомбами. А в отношении Франции он в другом случае сказал, что она, конечно, страна покрупнее и для ее уничтожения понадобится шесть-семь ракет с ядерными зарядами. И, по-видимому, был очень доволен, что так укрепил имидж и влияние советской державы. Потом он и в ООН вещал на весь мир, что Советский Союз производит ракеты одну за другой, как сосиски.
Вся эта детская ложь и бахвальство Хрущева, к сожалению, дополненные преувеличенными сводками о военной мощи Советского Союза, исходящими из ЦРУ (не имевшего агентуры в СССР) и министерств обороны западных стран, может быть, не имели бы серьезного значения, кроме появления все новых военных баз НАТО на границах Советского Союза, если бы не уже описанный Суэцкий кризис 1956 года, а за ним — вмешательство в положение в Сирии и Ираке и неожиданный, как казалось, успех этого блефа.
Когда создавалось государство Израиль, Сталин первоначально активно поддерживал его создание в надежде, что многочисленные все же выжившие евреи-коммунисты из Восточной Европы создадут и на Ближнем Востоке дружественный Советскому Союзу анклав. Быстро, однако, выяснилось, что богатые американские евреи частью вытеснили, частью переманили на свою строну нищих евреев из восточной Европы, коммунистического анклава не получилось и Сталин теперь уже всех евреев стал считать американскими агентами, но соперничество непосильное для Советского Союза на Ближнем Востоке прекратил — готовил войну в другом месте.
Но у Хрущева, совершенно не желавшего войны, замечательные политические успехи от блефа на Ближнем Востоке вызвали бессмысленную эйфорию и реальные экономические и военные обязательства. И у него, у Президиума ЦК КПСС того времени, у военного командования не хватило ума сохранить еще на десять или хотя бы на пять лет положение Советского Союза как мощной, но региональной державы, какой она была все послевоенные годы. Это время позволило бы Хрущеву хоть как-то привести в порядок сельское хозяйство и легкую промышленность страны, продолжить и закрепить либеральные реформы.
Вместо этого Египту был дан гигантский, сразу же свернувший многие реформы в СССР кредит, (конечно, никогда не возвращенный) на строительство Асуанской плотины на Ниле, в котором ему отказали Соединенные Штаты, потом началось первое, второе, третье перевооружение Египта, Сирии, затем — Ирака, Индонезии. Советский Союз оказался втянутым в одну за другой во все ближневосточные войны. Вся экономия от сокращения собственной армии далеко была перекрыта этими расходами новоявленной сверхдержавы. А потом перестали работать блеф и шантаж Хрущева. Сперва Эйзенхауэр отказался ронять престиж Соединенных Штатов и извиняться за полет У-2, потом оказалось, что многолетние попытки Хрущева заставить Запад уступить права Восточной Германии на весь Берлин тоже ни к чему не приводят, разведка и воздушная и космическая уже давали реалистическое представление о военных возможностях Советского Союза, но продолжающиеся агрессивные выступления Хрущева, внезапные и ненужные испытания сверхмощных водородных бомб, приводили к росту вооружений на Западе. К тому же становился все более мощным и амбициозным военно-промышленный комплекс СССР — для противостояния во много раз более крупному военно-промышленному потенциалу стран Запада он требовал все новые и новые ассигнования.
Как это ни парадоксально, именно самый миролюбивый из советских лидеров Никита Хрущев втянул Советский Союз в полномасштабную гонку вооружений со всем миром, в конечном итоге погубившую все его планы и реформы, а несколько позже — и весь Советский Союз. Особенно обидно то, что первая ошибка Хрущева — опора на партийный аппарат, хотя бы была оправдана его личной целью — захватом высшей власти в стране. Она подрывала вероятность достижения реальных успехов в запланированных им социальных и экономических реформах, но уж во всяком случае не угрожала самому существованию Советского Союза. Зато вторая и катастрофическая ошибка Хрущева на самом деле не вынуждалась, ни его личными целями, ни государственной необходимостью, но привела в конечном итоге к гибели и собственных планов Хрущева и всей советской империи. В ее основе лежало, собственно говоря, уничтожение Сталиным вокруг себя всех мало-мальски здраво мыслящих политических деятелей. Не зря же Сталин, реально оценивая тех, кого он оставил в живых не раз им говори: «Умру, всех вас передушат как слепых котят». Собственно говоря, и душить их никто не стал — сами себя разорили, переморили и сгубили вместе со всей страной.
Неумение считать, ложно понимаемая, неотделимая и от Хрущева ленинско-сталинская идея о необходимости распространения советского влияния во всем мире, по принципу «враг моего врага — мой друг», причем друг даже не коммунистический сделали, вероятно, неизбежным этот грустный результат.
Но, конечно, вопрос о союзниках стоял очень остро для Хрущева, у реформ которого в начальные годы были вполне ясные уже перечисленные три группы противников и достаточно сложные две государственные идеологические опоры, сами вызывавшие сопротивление в стране. Поскольку одна из опор («ленинские заветы») была, кроме общей идеи обновления страны, основана на безудержном романтизме и идеализации прошлого, естественными союзниками Хрущева должны были быть молодые люди. И Хрущев, которому с помощью первого секретаря ЦК ВЛКСМ Шелепина удалось «мобилизировать» совершенно в духе сталинских строек — Магнитки и Днепрогэса, комсомольцев на освоение целины, уделяет молодежи самое первостепенное внимание.
Но, конечно, Хрущеву необходима была и гораздо более серьезная «аппаратная» работа. Для начала он заменил более половины первых секретарей обкомов, крайкомов и союзных республик. Но одних сталинских партаппаратчиков приходилось заменять другими, иногда их же заместителями (вторыми или третьими секретарями), перебрасывать руководство из одной области в другую и хотя новые назначенцы были всем обязаны Хрущеву, он был слишком опытным аппаратчиком, чтобы безусловно полагаться на их надежность. Главное же было в другом — его смелое реформирование страны зачастую было совсем не по вкусу и старым и вновь назначенным партийным руководителям, к тому же требовало от них каких-то совершенно непривычных действий и отношений с людьми.
Понимая все это Хрущев устраивает не массовый прием в «партию», как это делал Сталин после очередного расстрела, а прием на работу молодых людей сразу в ЦК КПСС («набор» в ЦК Шахназарова, Жданова и других) или хотя бы в журнал «Коммунист» (как Федор Бурлацкий, Иван Фролов и другие). При этом набор ведется, конечно, из партийных, но далеко не обычных для партийного роста структур — Института государства и права, журнала «Блокнот агитатора», позднее — из созданного при Хрущеве же ультра-либерального со сталинской точки зрения международного журнала «Проблемы мира и социализма», размещенного с самого начала в Праге. Именно в нем нашли себе вполне уютное место подвергавшиеся до этого проработкам и травле юные философы-неомарксисты из Московского университета. Казалось бы, и в этом нет ничего особенного — Сталин тоже уничтожал раз за разом руководство страны, армии, спецслужб, устраивал молодежные наборы на освобожденные места. Но Хрущев все же в отличие от Сталина почти никого, кроме нескольких убийц из КГБ не расстрелял, да и характер перемен в стране в годы его правления был настолько несопоставим с тем, что было прежде, что некоторая часть молодежи из его «набора» в ЦК КПСС и впрямь стала, если не инициаторами, то талантливыми участниками его великих, хотя и совсем незавершенных реформ.
Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС (Александр Яковлев) резко расширил забавную попытку воспитания и образования штатных сотрудников аппарата ЦК, руководителей правительства и армии Советского Союза. Был составлен «особый список» и несколько сот включенных в него маршалов и ответственных чиновников могли заказывать себе по специально рассылаемому им каталогу издаваемых полуподпольно книг наиболее крамольную литературу — в основном, конечно, довольно плохо переведенную особо доверенными (а иногда — блистательными, как Игорь Сац) переводчиками из издательства «Прогресс» – среди них были многотомные мемуары Уинстона Черчилля «Вторая мировая война», правда, перепечатанные с русского нью-йоркского издания (Издательства им. Чехова), «Беглец из стана победителей» – биография Джорджа Оруэлла (о расправах сотрудников НКВД с анархистами и троцкистами в Испании), Эрнеста Хемингуэя «О ком звонит колокол», Милована Джиласа «Беседы со Сталиным» и Леонарда Шапиро «История компартии Советского Союза», «История русской философии» Флоровского, труды по экономике, социологии. Среди русских книг был тайно издан «Доктор Живаго» Пастернака, книга историка Зимина, подвергавшая сомнению подлинность «Слова о полку Игореве» и другие. Последними изданиями в этой серии для советского руководства были журналы «Гласность». К сожалению, советские лидеры, по рассказу сына Александра Яковлева — Анатолия Александровича, практически не интересовались мало-мальски серьезной литературой, особенно философской и экономической. Осенью 1968 года Яковлев получил выговор от Суслова за издание (напомним, «по особому списку») книги, подготовленной Чехословацкой академией наук, о вторжении войск стран Варшавского договора. К несчастью, мне никогда, несмотря на немалые приложенные усилия, не удалось увидеть каталог изданных таким образом книг. Даже в спецхран библиотеки имени Ленина эти тайные советские издания не поступали.
Таким же образом начали рассылаться довольно большому числу лиц основные материалы радиоперехвата зарубежных станций, вещавших по-русски, где было немало серьезных аналитических передач. Мне удалось найти бюллетени «радиоперехвата» года за два и они были изъяты во время обысков перед первым моим арестом. Естественно, я сказал, что случайно, из букинистических соображений, не помню у кого, их купил. Поскольку рассылка велась под номерами я очень опасался, что в результате проверки, у человека, который мне их подарил, будут неприятности. Но с удовольствием знакомясь со своим делом перед судом обнаружил справку о том, что не ведется учет, кому именно в эту неделю посылается тот или иной номер.
Такого же типа, но более открытой стала серия книг с грифом «для научных библиотек». Так были изданы словарь А. Хюбшера «Мыслители нашего времени», «Введение в эстетику» Э. Иона, сокращенный вариант книги Тияра де Шардена, сделанный уже в советское время академиком Крачковским новый перевод на русский язык Корана, и множество других книг. Эти книги не попадали в обычные книжные магазины, но продавались с некоторыми ограничениями в киосках академических институтов и, кажется, в магазинах «Академкниги». Естественно, они попадали и в научные библиотеки. Более закрытым вариантом подобных изданий были сборники самого различного характера с грифом «Для служебного пользования». Такой сборник, к примеру, составили десяток статей академиков-ядерщиков и физиков-теоретиков (Тамма, Зельдовича, Лифшица, Сахарова и других) «Будущее науки».
Обновление и просвещение центрального партийного аппарата совершалась Хрущевым не только целенаправленно, но каждый раз для решения вполне внятных для него конкретных целей. Мы, скажем, не знаем, в какой степени вернулся коминтерновский зубр Отто Куусинен к подпольно-коммунистической деятельности в Европе (об этом нет сведений), но по воспоминаниям Федора Бурлацкого созданная Куусиненом группа молодых неомарксистов под руководством Георгия Арбатова подготовила новый учебник марксизма-ленинизма и записку в Президиум ЦК с бесспорно ревизионисткой и просто подсудной по тем временам идеей замены зловещей формулы «диктатура пролетариата» в качестве определения характера советского режима, более либеральным и не содержащим в своем названии упоминания о насилии термином «общенародное государство». Конечно, и для этого были надерганы цитаточки из Ленина — все в стране облекалось в форму «возвращения к ленинским принципам».
Естественно, такая новация вызвала возмущение всех членов Президиума ЦК, вплоть до Фурцевой, но Куусинен только посмеивался — он все согласовал с Хрущевым. Позднее это же определение советского строя вошло и в новую программу партии и должно было стать основой нового текста конституции, которую Хрущеву уже не удалось заставить принять.
Деятельным сотрудником Хрущева в это время был, конечно, Юрий Андропов, о чем, к сожалению, редко упоминают. Уже его более чем тесная связь с Отто Куусиненом — единственным уцелевшим лидером Коминтерна, предусматривала особое отношение и к НЭП’у и к наследию ГПУ и Коминтерна. Именно Андропов, как заведующий отделом социалистических стран в ЦК КПСС, постепенно «отпуская вожжи» в Венгрии, Чехословакии, Польше, делал эти страны вполне приемлемыми, привлекательными даже для умеренно левого общественного мнения Запада.
Не могу забыть, как году в 1968-м, замечательная русская сказочница, жившая в Париже, наследница Ремизова и Бунина Наталья Владимировна Кодрянская, очередной раз приехав в Москву к племяннице и как всегда повидавшись с нами (она хорошо знала в Париже моего двоюродного деда — Александра Санина) сказала мне и моей жене:
– Если бы жизнь при социализме была повсюду такая же как в Венгрии, я думаю и у французов не было бы сомнений.
Это была реакция на «парижское восстание» и констатация бесспорного успеха «венгерского эксперимента» Андропова. Венгрия, правда, уже тогда жила в долг, за счет американских кредитов и советской нищеты (нефть отдавалась почти бесплатно, но об этом советские агенты влияния из управления «Д» скромно умалчивали).
Конечно, разрекламированная экспертная группа Андропова (Бовин, Богомолов, Шахназаров, Бурлацкий, Арбатов, ) тоже слагаемое этой работы. Любопытно, что как раз Андропов (может быть под влиянием Куусинена), не ограничивается только работой заграницей. Именно ему уже в 1962 году дает на отзыв первый вариант своей книги (в Советском Союзе – подпольной) «Перед судом истории», о Сталине и сталинизме Рой Медведев. Похоже, что и свой коммунистический самиздатский журнал «Политический дневник» он вел для этой же группы партийных чиновников еще сохранивших свое влияние и в шелепинский период и в первое время после постепенного его ухода в тень. Зять Хрущева Алексей Аджубей уверенно пишет в своих воспоминаниях, что только с Андроповым Хрущев обсуждал свои наиболее важные политические выступления. Участие официальных идеологов — Бориса Пономарева и Леонида Ильичева ограничивалось стилистической правкой. Руководитель «группы советников» Андропова Федор Бурлацкий не только сам сотрудничает с Куусиненом в новом идеологическом обосновании советского строя, но в 1963-1964 году, как мы увидим, будет одним из многих соавторов вполне революционной, хотя и не реализованной новой хрущевской конституции СССР.
Об обновлении советского руководства в те годы очень точную песенку написал близкий к этим кругам философ Эрих Соловьев:
Как-то раз, против совести греша,
я попал на совещание в ВПШ (Высшая партийная школа — С.Г.).
Думал встретить там матерых старичков,
составителей ядреных ярлычков.
А там ребята румяные и левые,
все больше Гарики, Арнольды и Глебы.
А в глазах у них Тольятти и Торез,
и здоровый сексуальный интерес.
Так и быть, исповедуюсь тебе.
Меня раз пригласили в КГБ.
Ну, я, конечно, одеваюсь и лечу,
уж к матерому, считаю, сычу.
А и там ребятки румяные и левые,
все больше Гарики, Арнольды и Глебы.
А в глазах у них Тольятти и Торез,
и здоровый сексуальный интерес.
Ой, писать не поднимается рука.
Как-то раз меня вызвали в ЦК.
Ну, жду, мол, попаду к первачу,
присягавшего еще Ильичу.
А там ребята румяные и левые,
все больше Гарики, Арнольды и Глебы.
А в глазах у них Тольятти и Торез,
и здоровый сексуальный интерес.
Погодите веселиться без причин,
еще мальчики вырастут в мужчин.
Потихонечку почистят своих
и будет съезд победителей у них.
Все одинаково румяные и левые,
все одинаково Арнольды и Глебы.
Их портретами развесят по Москве,
с самым левым и румяным во главе24.
Характерна пессимистическая концовка песенки. В другом ее варианте упоминается директор Института международного рабочего движения Тимур Тимофеев, но институт при всем его либерализме возник в 1968 году, а к этому времени уже и впрямь шел вялотекущий съезд победителей, а идеи «еврокоммунистов» – лидеров итальянской и французской коммунистических партий Пальмиро Тольятти и Мориса Тореза уже вызывали не интерес, а все растущее опасения. И здесь очень кстати для Хрущева появился в конце 1958 года описанный нами в первой главе «план Шелепина».
В так называемом «плане Шелепина» было все, что импонировало тогда Хрущеву. Эта дозированность правды и неизбежная дозированность реформ и была теми условиями, тем конкордатом причем не только с партийным, но, что не менее важно, с комсомольским аппаратом, на котором держался Хрущев. Он поддерживал достаточно легитимные основания для сохранения советской власти внутри страны, а легкий налет идеологического и культурного либерализма в сочетании с революционным комсомольским задором был необходимой опорой для «Плана Шелепина» (вместе с Семичастным, Егорычевым, Месяцевым, Павловым и другими) для продвижения рекламы советского образа жизни за рубежом: бесплатная медицина, образование, государственное пенсионное обеспечение, отсутствие безработицы — у тоталитарного режима были довольно убедительные доводы в пропаганде. А при этом реальное, а не на бумаге, улучшение жизни советских людей, и придание стране более цивилизованного облика и некоторое восстановление общественной справедливости, наконец — возможность сократить как армию, так и многие виды вооружений — все соответствовало и целям Хрущева и планам Шелепина. Но при этом сохраняется основная цель — осторожно, тихой сапой с помощью КГБ и не начиная новой войны сделать всю Европу коммунистической. Хотя нельзя было сказать, что критика Шелепиным действий КГБ и Серова была абсолютна объективной в конце 1958 года и что КГБ не действовал за рубежом подобным образом в области дезинформации. Давно были созданы и продолжали к 1959 году действовать за границей уже перечисленные нами (и далеко не полностью) просоветские организации. Известные представители советской интеллигенции («в том числе религиозной»), как скажем, неотделимый от «плана Шелепина» митрополит Никодим (Ротов) рукоположенный и начавший свою блистательную карьеру еще при Сталине, или «борец за мир» Илья Эренбург, успешно осуществляли те самые пропагандистские проекты, о которых говорил Шелепин, да и деятельность Ивана Агаянца вовсе не была новинкой для КГБ (достаточно вспомнить гигантскую пропагандистскую компанию о мифическом применении Соединенными Штатами бактериологического оружия в корейской войне). Наконец, уже к 1957 году Хрущев и Жуков осуществили гигантское сокращение армии на два миллиона человек и снизили срок военной службы с пяти до трех лет. И в этом же 1957 году ветеран коминтерна Отто Куусинен вернулся в Президиум ЦК КПСС, то есть до «плана Шелепина».
И так далее. Но все это значит, во-первых, лишь то, что так называемый «план Шелепина» первоначально очень соответствовал замыслам Хрущева и самому характеру постсталинского периода советской истории, а главное — что это единственный известный нам и хотя бы в общих чертах ясно сформулированный проект, возможно, и неосталинистского курса части советского руководства, но в некоторой степени реанимированный Андроповым, близким к первому этапу его власти и сыгравший очень значительную роль в 80-е годы — в заключительной части советской истории.
И, главное, то, что особенно важно для этой книги и то, что заставило нас начать ее с «плана Шелепина» – именно отсюда начинается особенно широкомасштабное манипулирование Комитета государственной безопасности СССР общественными движениями не только за рубежом, но и в Советском Союзе — в первую очередь.
Основной темой XXI съезда КПСС в 1959 году и была выработка новых направлений внешней политики СССР в соответствии с «планом Шелепина», а на самом деле та зависимость, в которую попадает, не понимая этого Хрущев, который под влиянием Аджубея начинает возлагать на Шелепина все большие надежды.
То есть «план Шелепина» по сути своей не был совершенно новым проектом, но это была гигантская крупномасштабная переориентация, глобальное изменение приоритетов во внешней, а во многом и внутренней политике СССР, утвержденная в 1959 году ЦК КПСС и в которой в равной степени были задействованы и КГБ СССР и ЦК ВЛКСМ и Совет Министров (в первую очередь — Министерство Культуры) и аппарат самого Центрального Комитета.
Проблема, однако, была в том, что для реализации этого сложного, многоходового и хитроумного плана — попытки сделать Советский Союз более динамичным, привлекательным и тем самым способным, используя еще живые во всем мире и в особенности в Европе идеи всеобщего коммунистического благоденствия (маленький Париж по-прежнему был окружен «красным кольцом» коммунистических муниципалитетов), продолжить дело Ленина и Сталина и распространить коммунистическое влияние по меньшей мере до Атлантики, что — этот план было некому осуществлять в первую очередь в оцепеневшем от страха, насилия и лжи Советском Союзе. Шелепин, естественно, мобилизовал управляемый им комсомол (об этом в главе «Шелепин»), а через КГБ — остатки Коминтерна.
А пока принимает участие в шелепинско-хрущевском обновлении, конечно, вновь созданный ВОКС — Всесоюзное общество по культурным связям. Это далеко не Коминтерн, но все же возглавляет его тоже очень близкий Хрущеву человек – Нина Васильевна Попова — подруга жены Хрущева Нины Петровны. Для каждой страны создают свое «Общество дружбы». Ответственный секретарь ВОКС Б.И. Чехонин вспоминает в книге с откровенным названием «Журналистика и разведка»:
«Были и другие (мероприятия — С.Г.), традиционные для спецслужб. Под благовидным предлогом на разные приемы, выставки, концерты, на показ фильмов приглашались сотрудники посольств, с которыми проводили работу офицеры КГБ, работавшие в ССОД, его американском, европейском отделах и в секторе по приему иностранных делегаций. Сколько было завербовано дипломатов и зарубежных гостей, навсегда останется тайной за семью печатями. Протокольный отдел занимался вербовкой и кадровых сотрудников нашей организации».
И дальше подводит итог:
«Весна во внутренней советской и внешней политике вовсе не означала конца идеологического противостояния с Западом. Она являлась более совершенной, более цивилизованной формой ведения холодной войны. Стратегические задачи оставались прежними – нанести ощутимый удар по укоренившемуся на Западе антисоветизму, создать более благоприятные условия для проникновения советского влияния в политическую и общественную жизнь, обеспечить возможности для дальнейшего повышения роли зарубежных коммунистических партий, роста их рядов и популярности в массах», а так же просоветских организаций и советских многочисленных агентов влияния на Западе. Во время европейских молодежных бунтов 1968 года — в первую очередь в Париже мы увидим парадоксальные результаты этой, на время оказавшейся невостребованной, работы.
Расширение влияния на Западе оказалось очень близким немногим уцелевшим сотрудникам Коминтерна и ОГПУ, многим все еще влиятельным членам семей старых большевиков. Дети некоторых из них позже, когда хрущевская «оттепель» была свернута, стали известными диссидентами (Павел Литвинов, Лариса Богораз, Виктор Красин, Петр Якир, братья Медведевы, Елена Боннэр). Немногие другие, как Лен Карпинский были даже сперва заметными сотрудниками ЦК ВЛКСМ, а потом и ЦК КПСС. Марлен Кораллов, вернувшийся из лагеря, в эти годы историк коммунистического движения, очень любопытно описывает вечер в квартире у сына Карла Либкнехта, а также обычных посетителей этого дома, где Эрнст Генри предлагает ему принять участие в сборе подписей под письмом академиков и артистов с протестом против возможной реабилитации Сталина в 1965 году:
«У Вильгельма Либкнехта гости. Пора уже расходиться. Задерживает вопрос: заметил ли я, что в прессе участились попытки смягчить приговор Сталину? Не отменить приговор, вынесенный на XX, на XXII съездах, а отодвинуть в тень, подправить… Если заметил, то как отношусь к этим опытам? На вопрос, безусловно, риторический отвечал я без всякой охоты.
— У Маяковского не было колебаний, принимать или не принимать революцию. И у меня нет сомнений: восстанавливать культ — занятие недостойное. Гиблое. Неудача желательна.
Собеседник не возразил, но, следуя законам полемики, предъявил упрек: «Ваш взгляд — со стороны».
— Естественно. Мне отыскивать, где же она, родная сторонка, довольно просто. Адресок подсказан. Смиряясь с курсом на оправдание Сталина, я бы предал расстрелянного отца, нахлебавшуюся тюремной баланды мать, зэков, с которыми загорал. Всех, загнувшихся в ссылке, в плену, пропавших без вести. По сути, вопрос оскорбителен.
Задал мне этот вопрос Эрнст Генри».
В этом любопытном свидетельстве (к нему мы еще вернемся, в главе о Сахарове) характерно и участие «старых большевиков» в защите остатков курса Хрущева и, главное, сам Эрнст Генри — один из считанных уцелевших нелегалов Коминтерна, самый опытный его вербовщик, работавший уже в 20-е годы — просто живой символ связи «плана Шелепина» с операцией «Трест». В так называемом «плане Шелепина» Эрнсту Генри, естественно, уделена одна из центральных ролей, по мнению Кораллова он выполняет прямые поручения Суслова. В «Воспоминаниях» Андрея Сахарова и в «Бодался теленок с дубом» Солженицына с разной степенью подробности и понимания, кто же он такой, Эрнст Генри упоминается, как человек, дающий им советы в очень важных ситуациях, а у Сахарова даже как соавтор. Но это уже следующий, постхрущевский недолгий шелепинский период. Но и в хрущевские годы Эрнст Генри — один из самых популярных публицистов, одна из его довоенных коминтерновских книг – «Гитлер над Европой» (1934 года) с успехом переиздается, хотя и совершенно неправильно понимается. Он публикуется в «Литературной газете», известных журналах, приходил, но безрезультатно, и ко мне в отдел критики журнала «Юность».
Пока же другой ветеран Коминтерна и операции «Трест» писатель Илья Эренбург, уже в 20-е годы известный своей странной работой в среде русской эмиграции в Париже, пишет, по-видимому, без государственного заказа, но как всегда это у него в точном соответствии с требованием времени, тщательно выверенные мемуары «Люди, годы, жизнь», где и им и цензурой было определено, что дозволяется помнить и говорить о культуре начала века, что о Сталине, что — о Ежове. При всей своей неполноте, двусмысленности и избирательности, написанные по некоторым предположениям по совету Маленкова, мемуары Эренбурга для совершенно одичавшей советской интеллигенции были тем же, чем для партийного руководства был доклад Хрущева на XX съезде — это был внезапный и беспримерный прорыв, хотя бы к минимальной правде о казалось бы навсегда превращенной в «лагерную пыль» русской культуре. Но как и с докладом Хрущева, далеко не все готовы были принять эту дозированную правду о судьбе русской культуры. Та часть интеллигенции, которая и знала о прошлом значительно больше, чем было написано Эренбургом, да и о его собственной роли была очень невысокого мнения, относилась к его мемуарам с откровенным скептицизмом. Борис Ямпольский пишет, как оценил воспоминания Эренбурга предельно искренний Василий Гроссман:
– Это ведь исповедь, покаяться надо было, а то получился фельетон25.
Твардовскому был антипатичен ко всему умело приспосабливавшийся Илья Эренбург, но отказать в публикации мемуаров он не мог. Видимо, понимал, что это часть того же идеологического мифа, который поддерживает и работу «Нового мира». И кроме того, конечно, не мог знать того — это опубликовали исследователи нашего времени — Бенедикт Сарнов и Борис Фрезинский, что именно Эренбург послал очень разумное и осторожное письмо лично Сталину задержал на какое-то время (а там и диктатор издох) начинавшуюся расправу и высылку миллионов евреев и тем самым спас множество жизней, а Россию от величайшего в ее истории позора.
Отказ от «дела врачей» и высылки в Биробиджан евреев (свидетельство Микояна об этом не может быть опровергнуто), гигантская первая амнистия, облегчение положения крестьян и пересмотр самых одиозных статей в уголовном законодательстве — все важнейшие приметы начавшиеся сразу же после смерти Сталина, сопровождались и на первый взгляд менее серьезными, но изменявшими климат в стране небывалыми новшествами.
Почти сразу же разрешили свободно ходить по Красной площади — раньше можно было идти под неусыпным взором охранников только вдоль торговых рядов. На Новый год в Кремле был устроен молодежный бал, вскоре в Кремлевском дворце стали проводить детские новогодние елки. 15 октября начала работать совсем непохожая на другие каналы радиостанция «Юность». 26 ноября разрешили браки с иностранцами. Музей изобразительных искусств перестал быть музеем подарков Сталину и в Москве появилась экспозиция европейской живописи и древнеегипетского искусства (коллекция Голенищева, подаренная музею при его основании).
В декабре 1953 года в «Новом мире» была опубликована статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» – почти манифест, призывавший отказаться от «лакировки» действительности, на самом же деле от основного конфликта в искусстве социалистического реализма: борьбы хорошего с прекрасным.
В апреле 1954 года произошло нечто небывалое в советской культурной жизни: в Москву приехал на гастроли настоящий иностранный театр, да не какой-нибудь, а знаменитый «Комеди франсез» привез «Сид» Корнеля, «Тартюф» и «Мещанина во дворянстве» Мольера. В Москве давно уже почти никто не учил и, главное, не понимал и не говорил по-французски, но все рвались посмотреть на настоящих иностранных артистов. К тому же и пьес почти никто, кроме филологов, не знал — последние издания и Корнеля и Мольера были в России до революции, а любые старые книги на всякий случай лучше было не хранить.
В июне-июле 1955 года открылись новые журналы «Юность» и «Иностранная литература» (восстановленная после почти двадцатилетнего перерыва).
Уже с 1955 года в Москве начали вновь разводить голубей (те что были бездомными раньше давно были съедены) — уже было принято решение о проведении в 1957 году Международного фестиваля молодежи и студентов. Голубь с легкой руки Пикассо стал уже не символом Духа Святого, а птицей мира. Фестиваль стал (наряду с женевским совещанием глав правительств стран-победительниц во Второй мировой войне) не только демонстрацией несопоставимо большей открытости, вписанности СССР в окружающий мир, советские граждане впервые узнали, что негров в США не только линчуют. На нем было больше восьмисот концертов и выступлений молодых людей из разных стран просто на улицах и площадях Москвы, художественные выставки в том числе и страшного абстрактного искусства, и это был настоящий гигантский праздник для жившего 40 лет в мрачном молчании города. Еще до этого — в июне 1956 года — страшно подумать — целых 423 советских человека смогли проехать в круизе на теплоходе «Победа» вокруг Европы с заходом во все важнейшие порты и даже с поездкой в Париж. А потом по такому же маршруту проплыли туристы на теплоходе «Грузия» – больше тысячи человек и далеко не все из КГБ и смогли увидеть как живут люди за границей, да еще Константин Паустовский довольно реалистически описал поездку в «Литературной газете». Представляю, однако, как в глазах французов выглядели эти первые советские туристы: половина из них в сандалиях, байковых шароварах и узбекских тюбетейках, в которых почему-то ходила добрая половина мужского населения СССР. Один из крупных русских дипломатов описывает, как именно в таком виде он пришел на работу (после окончания МГИМО) в Министерство иностранных дел — брюки и туфли были и большой роскошью и редкостью в те годы.26
Созданный Хрущевым совершенно иной климат в стране, первые за многие десятки лет поездки советских граждан на Запад в том числе в первых писательских группах, их рассказы об увиденных там ими «диковинках» совсем как XIV века о Китае, или в XVI об Америке на собраниях сослуживцам и знакомым почти дикарски отвыкшим за годы советской власти от европейской жизни или по крестьянскому своему происхождению и десятилетием полной изоляции и не имевших о ней представления. Опубликованные в журналах «записки» путешественников, например, Виктора Некрасова в «Новом мире» о поездках во Францию и США в том числе о впервые обнаруженном им в Лувре гениальном Паоло Учелло, а даже в 1965 году рассказы Бориса Галанова сослуживцам по редакции на специальном собрании о средневековых витражах Сент-Шапель в Консьержери сейчас читаются и звучат, конечно, дико, но никаких популярных книг по искусству высокого Возрождения или хотя бы путеводителей в СССР уже полвека, как не было.
3 марта 1956 года — постановление о возвращении Дрезденской галереи. И вторичная, теперь открытая ее экспозиция в Музее изобразительных искусств. 10 января 1956 года в Москве уже американская группа «Эвери мэн» со знаменитой «Порчи и Бесс». 18 января возобновлены богослужения в Ленинградской соборной мечети (закрыта в 1940 г.).
Легко, однако, понять, что все эти и многие другие иногда незначительные, иногда очень важные перемены в духовном климате еще так недавно жившей в оцепенении и ужасе в ожидании новых расстрелов, новых карательных мер и очередных запретов страны сегодня приписываемые исключительно Хрущеву, на самом деле могли происходить в насквозь марксистски-идеологизированной стране лишь с согласия, а по сути дела — по инициативе, под руководством ушедшего от сталинских догм идеологического аппарата.
Руководил им Михаил Суслов. И поскольку именно «оттепель» Хрущева и последовавший за ней культурный взлет буквально во всех областях — единственное, что все же безусловно относят к числу крупнейших заслуг и достижений Хрущева, любопытно впервые присмотреться к тому, кто непосредственно руководил этой работой. Человеку, который и сегодня остается одним из самых влиятельных и самых загадочных людей в русской истории.
В биографии Суслова обращает внимание его не просто законченное лучшее по тем временам высшее образование, сперва Московский институт народного хозяйства, потом в дополнение к нему экономическая академия красной профессуры, но и то, что он единственный из всего послесталинского руководства страной успел после завершения учебы несколько лет поработать преподавателем политической экономии одновременно и в Промышленной академии и в Московском университете, да и оттуда ушел не в руководство партийными организациями, а по сути дела еще на пять лет по профессии — в различные экономические контрольные структуры Советского Союза, то есть успел хорошо понять каким на самом деле, а не в газетных статьях, является советское хозяйство. В кровавом 1937 году Суслов из Москвы попадает в Ростов, но судя по его послужному списку он не из тех, кто идет по трупам, а выживает в сталинском перемалывании партийных кадров, может быть, потому, что он и не «кадр», а экономист, да и в это время без связей с НКВД — повышают его по тем временам довольно медленно: в 1937 году — заведующий отделом обкома, в 1938 — 3 секретарь обкома, 39-40 год — 2 секретарь Ростовского обкома, и лишь одновременно с марта 1939 года еще и первый секретарь соседнего Орджоникидзевского-Ставропольского краевого комитета. Никаких воспоминаний я об этом времени я не нашел, но одно бесспорно — Суслов сумел с успехом применить свои экономические таланты. В какой степени он участвовал в чистках и расстрелах и в предыдущие и в эти годы понять трудно, хотя, конечно, быть в стороне он не мог. Рой Медведев в «Штрихах из жизни Михаила Суслова» пишет, что в июле 1939 года Суслов называет ряд лиц, арест которых необходим и высказывает недовольство краевым УНКВД, «проявляющим благополучие и беспечность». В результате в крае — пишет Медведев — в 1939-40 году усилились репрессии. Его отличие от «сталинской гвардии» (пока еще не от всей, но от существенной ее части) и этого и последующего времени в том, что получив лучшее, какое возможно было в Советском Союзе, образование он получает возможность в самых трудных условиях — в том числе в годы войны — применить его на деле и с очевидным успехом.
За десять дней до захвата немцами Владикавказа он отчитывается в том, что к середине июля 1941 года убрано с полей около трети урожая и это без всякой техники и даже лошадей — с использованием для отвоза зерна от комбайнов колхозных и крестьянских коров27. До этого Суслов с увлечением занят проведением (тоже вручную, с привлечением крестьян Ростовской области, Калмыкской АССР и Ставрополья) Невинномысского канала, который дает необходимую воду Сальской степи и засушливым землям Ставрополья. Говоря об этом, кажутся убедительными слова Суслова в глубокой старости, будучи уже двадцать лет вторым человеком в стране, о том, что лучшей работой он считает работу секретаря обкома, когда сразу же видишь результаты своих усилий.
После года с небольшим, оказавшись в должности члена Военного совета 9 армии — пока немецкая армия остается на Северном Кавказе, но как только их вытесняют Суслов опять на прежней должности и до сталинского плана преобразования природы занят посадкой лесозащитных полос, завершением канала — и все это во время войны без техники, без мужчин. В 1943 году приезжает Берия и руководит высылкой с Кавказа всех карачаевцев (Карачево-Черкесская автономная республика, входящая в Ставропольский край, становится Черкесской). А уже в 1946 году создается Бюро ЦК по Литовской ССР и руководителем его назначен Суслов.
Есть разные представления о том, какое участие принимал Суслов и в выселении карачаевцев и в борьбе с «лесными братьями» и усмирении литовцев. Авторханов писал и мне говорил, что Суслов был и там и там очень деятелен и жесток. Аксютин, Рой Медведев, не говоря уже о зяте Суслова Сумарокове полагают, что участие было пассивным, что занималось этим НКВД и ни с кем не советовалось. Но существенными представляются две вещи:
Во-первых, Суслов, независимо от меры своей бесспорной вины, при первой же возможности стремится результаты ее, если не загладить, то хоть как-то смягчить. Уже 20 марта 1953 (!) года он пишет записку о смягчении режима спецпоселенцев, выделяя в их числе карачаевцев. В свою очередь Литовская ССР, где уже в 1945 году Суслов заявил, что «переход к общественному хозяйству является вашим добровольным делом», все послевоенные годы была тихим и сравнительно преуспевающим оазисом в Советском Союзе, как говорили, благодаря личной поддержке Суслова и всей республики и ее неизменного первого секретаря Антанаса Снечкуса. Мало того, что в Литве в гораздо меньшей степе проводилась коллективизация, чем в других регионах СССР, сохранялись хутора, да и колхозы («мы не будем торопить вступать в колхозы» — говорит Суслов в 1942 году) были очень зажиточными и процветающими. Все достаточно благоприятно происходило и в области культуры, а католическая церковь в течении пятнадцати или даже двадцати лет (до середины семидесятых годов) не просто сохраняла свое влияние, но практически не подвергалась гонениям, как это происходило и с православием и почти уничтоженной греко-католической церковью на Украине. Но особенно важно было другое, за что литовцы могут быть благодарны Суслову до сих пор. В Литве (в отличие от Латвии, Эстонии) не строились крупные промышленные предприятия общесоюзного значения (позднейшим исключением стала атомная электростанция), то есть не было тяжелой промышленности. Благодаря этому в Литву не переселялись рабочие из центральных областей России и национальный состав населения практически не менялся. В Литве «русскоязычное население» обычно не превышало четверти живущих, а потому ни раньше, ни теперь не было национальных проблем (для сравнения, в Эстонии русских было 50%, в Латвии — лишь чуть меньше, чем латышей, но в Риге — больше). То есть в отличие, скажем, от Маленкова, который старался отстраниться от следов тех преступлений, к которым заведомо был причастен (например, «ленинградское дело»), Суслов все же старался, как мог и иногда очень серьезно, смягчить их последствия.
Вторым важным обстоятельством представляется приобретенный Сусловым опыт работы в областях, где не часть, а практически все население в годы его руководства откровенно было враждебно советской власти. На Северном Кавказе это, конечно, не только карачаевцы, но и большинство черкесов и «расказаченные» Сталиным Терские и Кубанские казачьи станицы, да и все хуторское сельское население поголовно раскулаченное в годы коллективизации. К тому же Суслову приходится восстанавливать не столько колхозы (их немцы сохранили), но собирать назад крупный рогатый скот — колхозные стада немцы раздали крестьянам. То есть идеологически защищать советский режим и на Северном Кавказе и в Литве было очень не просто.
А потому, конечно, трудно делать какие-то предположения о том, к каким представлениям пришел для самого себя такой совершенно «застегнутый на все пуговицы» и самый скрытный в советском руководстве человек, как Михаил Суслов, но из непредвзятого анализа всей последующей его деятельности создается впечатление, что он считает советское государство — новый вид Российской империи – «реальный социализм», как его называл, крайне хрупкой конструкцией. А хорошо познакомившись с советской экономикой, с партийным аппаратом в Москве и на местах, с НКВД в действии, многочисленными силами, враждебными Москве, советской власти и друг другу пришел к выводу, что любые потрясения крайне опасны и для этого едва сохраняющего единство государства и для многочисленных, как правило, находящихся в очень трудном положении его народов.
А в марте 1946 года Суслов уже назначен членом Оргбюро ЦК, в мае — заведующим отделом внешней политики ЦК ВКП(б). К своему хорошему образованию, хозяйственному и сложному внутриполитическому опыту Суслов прибавляет опыт внешнеполитический — он курирует состояние взаимоотношений между собой всех коммунистических партий, да к тому же еще и приобретает немалый административный опыт. От него зависят все назначения в дипломатическом и внешнеторговом ведомстве. Что еще более интересно, как пишет историк Аксютин ссылаясь на книгу Г.М. Адибекова «Коминформ и послевоенная Европа» – в сентябре 1946 года Суслов участвует в работе комиссии А.А. Кузнецова по проверке работы бывших коминтерновских структур — НИИ №99 (антифашистские курсы и школа), №100 (нелегальная связь) и №205 (текущая информация и анализ).
Не менее важным и интересным представляются два другие обстоятельства:
– Суслов пользуется таким доверием, что именно ему уже в 1947 году поручаются, какие-то особые операции — политбюро в какой-то неясной ситуации принимает решение выдать тов. Суслову для специальных целей 100 тысяч долларов (гигантские деньги для советского бюджета того времени).
Еще более важным представляется активное участие Суслова в антисемитской компании в Советском Союзе. Уже 26 ноября 1946 года он направляет Сталину повторяющую обвинения министра госбезопасности Абакумова в адрес Еврейского антифашистского комитета. По-видимому, на этом этапе это инспирированная Сталиным борьба Абакумова с Берией, по инициативе которого Комитет был создан. Но бесспорным является соучастие Суслова в готовящемся в СССР геноциде евреев и распространившейся по стране гигантской антисемитской компании — именно Суслов в 1949-52 году начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (потом — КПСС), в 1952-54 году член Президиума ЦК КПСС, курирующий вопросы пропаганды и главный редактор газеты «Правда». Характерно, что и в этом он попытался покаяться и через много лет взял под защиту Александра Яковлева, написавшего статью об опасности русского национализма (имевшего явный антисемитский привкус) и за это сосланного послом в Канаду, от председателя КГБ Юрия Андропова, который был недоволен отношением Яковлева к сотрудникам КГБ в посольстве. В любом другом случае обвинений Андропова было бы достаточно, для увольнения посла, но тут Суслов очень жестко поставил Андропова на место, заметив:
Не КГБ направило Яковлева послом, не КГБ будет и его снимать.
С этих пор двигаясь почти неуклонно по административно-партийной лестнице Суслов становится не только одним из самых образованных людей в советском руководстве, но к тому же имеющим самый поразительный по своему разнообразию опыт. С марта 1953 года Суслов активно включается в десталинизацию, а ХХ съезд и доклад Хрущева определяют на четверть века его позицию в советской жизни, советском руководстве. Если переводить доклад Хрущева на внятный язык, то в нем было сказано:
– с одной стороны мы признаем хотя бы часть совершенных чудовищных преступлений, мы ни в коем случае не хотим их повторения, но
– с другой стороны режим сделавший возможным эти преступления является самым лучшим и должен быть сохранен, как и власть большинства преступников.
И не так уж важно, кто из тех, кто объявлял об этом или поддерживал решения ХХ съезда искренне, зачастую по-разному верил в коммунистические идеалы, как Никита Хрущев, Александр Твардовский, Всеволод Кочетов, или относился к ним с нескрываемым цинизмом, которым по мнению Александра Яковлева был заражен весь Центральный комитет КПСС. Эта дилемма ХХ съезда оставалась четверть века актуальной и для тех и для других.
Представляется, что Суслов относясь к «реальному социализму» как к данности, перед собой ставил только одну цель — найти баланс, который бы уберег его такую хрупкую страну от любых потрясений, которые неизбежно превратятся в катастрофические. Создается впечатление, что Суслов сознательно надевает на себя маску сухого начетчика, «кощея развитого социализма» как называет его с эмоциональностью, которая совсем уж не пристала историку и беспристрастному исследователю, Юрий Аксютин. Лишь иногда из-под этой маски выглядывает лицо «все понимающего человека» (Брутенц) или как пишет в книге «Холодная война и свидетельства ее участника» зав. Отдела США Министерства иностранных дел СССР Г.М. Корниенко в тех редких случаях, когда Суслову приходится говорить не с коммунистами он ненадолго снимал маску и говорил «на вполне нормальном государственном языке и использовал аргументацию лишенную идеологических стереотипов» (встреча с Уильямом Скоттом — лидером республиканцев в американском сенате).
Суслов с первого дня поддерживает Хрущева в его метаниях. Из триады Берия, Маленков, Хрущев только с последним у него не было столкновений внутри партийного аппарата при Сталине, к тому же сохранявшаяся вера Хрущева в идеалы коммунизма, может быть, и казалась Суслову наивной, но при этом наиболее оптимальной для своего времени. Больше чем кто-либо в коммунистическом руководстве (может быть, кроме Берии) видя хрупкость коммунистического руководства внутри страны и ненадежность коммунистического движения за ее пределами, Суслов, самым лучшим воспоминанием в жизни которого была хозяйственная деятельность в Ставропольском крайкоме, строительство Невинномысского канала, насаждение лесных полос — и все это до сталинского плана «преобразования природы», по-видимому, Суслов действительно был хорошим экономистом и хозяйственником, выбирает себе в руководстве страной самую сложную и неблагодарную область — агитацию и пропаганду того чудовищно сложного и никого не удовлетворяющего ни слева, ни справа курса, который был назван хрущевской «оттепелью», но с большим основанием может быть назван и «сусловской». Тот сложнейший виртуозный курс внутриполитической жизни выработан, конечно, при определяющем влиянии Суслова, который по словам Карена Брутенца — многолетнего сотрудника ЦК — хотя по наблюдениям понимал «все или многое, был как известно догматически жесток и даже жесток. Но не потому ли, что прежде всего, что «понимал» – и включался охранительный рефлекс, действовала охранительная реакция». В частности не только необходимость спасения Хрущева и от «антипартийной группы», где руководствующую роль играл бы Молотов и от военной диктатуры Жукова, которая независимо от его собственных взглядов была бы диктатурой просталински настроенного офицерского корпуса советской армии, да и вообще от любой партийной оппозиции советской бюрократии, которая тоже была воспитана в сталинские годы. Суслов судя по тому, что он делает, а не по тому, что он изредка говорит, хорошо понимает и как хрупок государственный организм советской империи и как ничтожны либеральные силы в Советском Союзе и делает все, чтобы сохранить необходимый баланс, удержать страну одновременно и от распада, междоусобной войны, и от реставрации тоталитаризма в результате взрыва партийного недовольства, да еще и тоталитаризма на деревенском уровне сознания.
Видя, что Хрущев реально, хотя и без желаемого фантастического успеха пытается улучшить жизнь советских людей, во всем старается поддерживать Хрущева, придать логическое основание его поискам. Конечно, он осведомлен обо всех планируемых Хрущевым в 1964 году по сути дела антикоммунистических политических реформах, хотя и незаслуженно оттесненный от конституционной комиссии Ильичевым, Суслов буквально до самых последних дней он, как и Косыгин, не соглашается поддерживать заговорщиков. Егорычев вспоминает, как он по просьбе Брежнева на похоронах Мориса Тореза в июле 1964 года пытается вести с Сусловым «зондажные» разговоры. И ничего из этого не выходит. Суслов совершенно не хотел отставки Хрущева. Во-первых, несмотря на постоянные попытки сдержать неосторожного и слишком порывистого Хрущева, они действительно были подлинными союзниками, даже соратниками почти десять лет и более умному чем Шелепин и Егорычев Суслову нельзя было внушить, что Брежнев будет продолжать дело XX и XXII съезда и, во-вторых, несмотря на совершенно не нужное ему резкое усиление возможностей начальника Главного политического управление армии Епишева, Суслов по-прежнему сохранял и громадное влияние и источники информации в советской армии. А потому понимал (что, как мы знаем, понимал и Микоян), что Брежневым, Подгорным, как марионетками, вертят советские маршалы и ему это усиление руководства армии так же не нравилось, как это было в 1957 году когда они вместе с Хрущевым свергали Жукова. Лишь когда Суслов и Косыгин буквально в последние дни убеждаются, что все против Хрущева и помочь ему нельзя, они тоже примыкают к большинству. Но в дальнейшем именно Суслов не допустил планируемой маршалами и Брежневым реабилитации Сталина на XXIII съезде. Да и в разгар польских событий именно Суслов, будучи председателем комиссии заставил польское руководство легализовать антисоциалистическую оппозицию, забастовочные комитеты в Гданьске и Щецине.
А до этого советские демократы считают Суслова бесспорным душителем всякого живого слова и свободы, не думая, к примеру, о том, что Фурцева после XXI съезда (1961 год) уже не член Президиума ЦК, а всего лишь министр культуры, да и дружелюбно настроенные сотрудники ЦК могут помогать советскому театру, «Новому миру», журналу «Юность», другим изданиям лишь потому, что это соответствует «балансу» Суслова. С другой стороны, своим бесспорным врагом его оправданно считают Всеволод Кочетов или Иван Швецов (элементарно-сталинский роман первого «Чего же ты хочешь?» и роман второго «Тля» активно не нравятся Суслову), а в национально-коммунистическом журнале «Молодая гвардия» Суслов практически лично устраивает погром и меняет главного редактора.
Всегда вспоминают разговор Суслова с Василием Гроссманом, после того, как КГБ конфисковал рукопись романа «Жизнь и судьба».
– Ваш роман будет издан не раньше, чем через двести лет.
Все мемуаристы смеются, сопоставляя эту фразу с «тысячелетним рейхом». А между тем Суслов говорит лишь о том, что он не видит пути к мирному бескровному демократическому развитию России и с грустью прибавляет: самое главное, чего и нет у Гроссмана:
– Мы не можем сейчас вступать в дискуссию, нужна или не нужна была Октябрьская революция.
Именно Суслов предлагает провести пленум союза писателей, где выступили бы и Твардовский, и Кочетов. А потом, хотя и выступает против публикации «Одного дня Ивана Денисовича» (нарушает хрупкий баланс, и положение самого Хрущева становится идеологически опасно – и так слишком много сказано), приводит в недоумение и Солженицына и последующих противников тем, что сам знакомится с писателем и говорит ему о «своем крайнем удовольствии» от чтения повести.
Между тем все вполне очевидно: Суслов против публикации, поскольку она расшатывает хрупкое здание «реального социализма» создает опасность самому Хрущеву, а не потому, что она ему не нравится. «Иван Денисович» уже опубликован, к нему, как и к Солженицыну, надо относиться как данности, к тому же вполне соответствующей представлениям о советской истории самого Суслова. Собственно говоря и сам достаточно наивный Твардовский, и группировавшиеся вокруг «Нового мира» литераторы постоянно жаловались на условия, на задержанные номера, на цензуру, но не понимали, что могут продолжать работать только благодаря руководимым Сусловым отделом Культуры, пропаганды и агитации ЦК КПСС, где сторонники «Нового мира» не просто находились в бесспорном меньшинстве в аппарате ЦК КПСС, но, главное, их было ничтожно мало во всем партийном (то есть руководящем) аппарате страны, в военных, комсомольских, правоохранительных структурах, не говоря уже о советских литераторах, как бы их не тасовали Хрущев, а на самом деле и Суслов. Выступая против публикации Солженицына, Гроссмана, недостаточно мощно, и явно поддерживая «Новый мир» Суслов пытается спасти темпераментного Хрущева, сохранить весь его курс обновления и гуманизации страны. Именно поэтому, понимая кто противостоит Хрущеву и сколько их, он убеждает Хрущева временно отступить сразу же после публикации «Одного дня Ивана Денисовича», но об этом, как и о спасение хотя бы пленки фильма Аскольдова «Комиссар» (по сценарию Василия Гроссмана) речь пойдет ниже.
Итак от этого сильно забежавшего вперед и в значительной степени политического очерка роли Михаила Суслова в советской истории, вернемся непосредственно к той области, которую он курировал при Хрущеве в первую очередь — обновлению и возрождению русской общественной мысли и, конечно, по преимуществу — культуры.
Тем не менее, конечно, это был либерализм по-советски и очень характерной, хотя тогда это было кому известно, стала одна из одна из первых выставок символизировавших обновление культурной жизни — грузинского художника Ладо Гудиашвили в выставочном зале Союза художников на Кузнецком мосту. Чуть манерный, работавший в 20-е годы в Париже, он был достаточно далек от соцреализма и советской жизни, а потому лет двадцать не выставлялся. Году в 58-м выставка его, наконец, состоялась, в зале Союза Художников СССР на Кузнецком мосту в Москве, но одновременно была использована Вторым главным управлением (контрразведка) КГБ СССР для того, чтобы иметь предлог для знакомства с помощью супругов Михалковых французского посла Мориса Дежана с «бабочками», которые должны были его соблазнить и таким образом сделать управляемым из Лубянки. Это почти удалось, посол был избит внезапно появившимся «мужем», но после разоблачений перебежчика из КГБ быстро ушел в отставку. Но без таких «дополнительных целей» в то же время прошли выставки Павла Кузнецова, Бажбеука-Меликова, Виталия Шухаева, позднее — Петрова-Водкина, в более скромном зале возле Патриарших прудов — Роберта Фалька. В Третьяковской галерее вернулись в экспозицию по одной осторожно отобранные, но до этого охаиваемые картины художников группы «Мира искусства»: Сомова, Добужинского, Кустодиева, а в залы советской живописи уже несколько картин художников русского авангарда (правда 20-х годов) «Портрет Жоржа Якулова» Петра Кончаловского и две картины Давида Штеренберга.
Прошли блистательные выставки работ старых мастеров из ряда величайших музеев мира: Прадо, Национальной галереи в Лондоне, музея «Метрополитен», а потом и выставка графики Пикассо, конечно, под предлогом того, что именно он не только коммунист (о том, что он содержал «Юманите» не упоминалось), но и нарисовал «голубя мира».
Да к тому же происходили менее крупные и известные, но очень важные для московской интеллигенции выставки, организуемые не крупными музеями, а отдельными коллекционерами и искусствоведами — и все это, конечно, было веянием изменившегося в хрущевскую эпоху времени.
В музее Маяковского (в доме Бриков на Таганке) смог провести около десятка трехдневных выставок «художников — иллюстраторов Маяковского» искусствовед Николай Харджиев, а там уже были крупнейшие художники русского авангарда в своих лучших работах — Владимир Татлин, Михаил Ларионов, Лев Жегин, Василий Чекрыгин, Густав Клуцис. В «Институте физических проблем» Петра Капицы устраивал выставку сперва Александра Шевченко, а потом и других художников русского авангарда из своего собрания коллекционер Илья Рубинштейн, в новосибирском Академгородке прошла выставка Филонова с литографированным, нелегально изданным Михаилом Макаренко (без цензурного разрешения), большим каталогом с репродукциями и выдержками из статей Филонова. Да и я весной 1968 года в высотном доме МГУ устроил трехмесячную большую и открытую выставку Веры Пестель, Льва Жегина и Татьяны Александровой, что вызвало большое возмущение парторганизации университета. Серьезная живопись понемногу возвращалась в русскую жизнь.
Начиналось все, конечно, уже весной 1953 года со свертывания в Музее изобразительных искусств экспозиции подарков Сталину с его сотнями портретов из маковых зерен и кукурузных початков и возвращения в экспозицию египетской коллекции Голенищева, подаренной музею (при его создании), и довольно хорошей коллекции живописи, куда была включена и другая подаренная музею коллекция при его создании итальянской живописи эпохи Возрождения и Кватроченто Щекина, работы старых мастеров, в 20-е годы полученные из Эрмитажа, Румянцевского музея и национализированных московских коллекций. Это были не только признаваемые классики — Пуссен, Лорен, знаменитый «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» Рембрандта, но и несколько картин из давно уже закрытого и разделенного между Москвой и Ленинградом (Эрмитажем) Музея новой западной живописи, составленного, в основном, из конфискованных после революции великих коллекций Щукина и Морозова. Экспонировано было, правда, сперва очень немного «наиболее реалистических» холстов Сезанна, Писарро, Сислея и даже Матисса, раннего Пикассо и Марке, но и это было просто художественным взрывом в затхлом мирке социалистического реализма. Конечно, это был (и остается) очень небольшой музей для столицы великого государства, но много лет и такого музея были лишены москвичи и все приезжающие в столицу
Да к тому же в 1960 году была проведена выставка Андрея Рублева, впервые издан альбом репродукций и исподволь стало утверждаться мнение, что именно «Троица» Рублева является подлинной вершиной русского искусства, а не «Сталин на крейсере «Молотов» Александра Герасимова. В 1963 году была выставка «Реставрации и консервации» русских икон, в 1964 – «Северные письма» и открытие Померанцева — «Русская деревянная скульптура», в 1967 — Ростово-Суздальская школа, а в 1970 выставка «Псковской школы» уже в Манеже.
Все это дополнялось первыми книгами и альбомами: «Художники революции», первый альбом Петрова-Водкина, «Псковская икона», в конце концов сперва для заграницы, а через три года и для СССР альбом «Сердцем слушая революцию» уже с картинами Кандинского, Малевича, Шагала, Родченко.
Естественным результатом стал новый взлет творчества выживших в России первоклассных старых художников: Льва Жегина, Василия Шухаева, Роберта Фалька, в меньшей степени — Павла Кузнецова и тех, кто начал работать уже в 20-е годы: Лабаса, Тышлера, Стерлигова, Игоря Попова, Мавриной, Глебовой, Кондратьева, Басманова, Татьяны Александровой, Кропивницкого. Появились художники «сурового» стиля Николай Андронов, Никонов, Попков. И еще более молодые и еще более модернистичные: Владимир Вейсберг, Плавинский, Штейнберг, Рабин, Зверев, Васильев, Шпиндлер. Продолжали работать (иногда несколько изменив характер живописи) Юрий Пименов, Жилинский, Нисский, Оссовский, Жилинская, да всех просто не перечтешь. На смену достаточно унылому социалистическому реализму, где у художников различался, конечно, уровень профессионального мастерства, но почти не отличимы были кремлевские и колхозные сюжеты, пришла очень многообразная действительно творческая художественная жизнь. Все они, конечно, работали во все еще очень трудных советских условиях, почти без выставок или с «частными» выставками, но все же могли работать и почти все ощутили замечательный творческий взлет.
Не менее замечательно и характерно для исподволь начинавшегося возрождения русской культуры происходили перемены в музыкальной жизни. Конечно, расширялись гастроли блестящих советских музыкантов и танцовщиков, по личному разрешению Хрущева даже не вызывавших доверия у КГБ Святослава Рихтера и Майи Плисецкой за рубежом (они приносили СССР валюту и потому здесь вопросов не было — лишь бы не оставляли себе гонорары, как сделала Наталья Гутман и стала невыездной). Большой театр и театр им. Кирова (Мариинский) собирали аншлаги во всем мире, на каждом своем спектакле, но особенно интересными оказались гастроли Владимира Васильева и Екатерины Максимовой. Их не просто нещадно эксплуатировало Министерство культуры, но только для заграницы (ведь влияние по плану Шелепина нужно было в Европе), о них был снят фильм «СССР с открытым сердцем», где уже были не только фрагменты балетов с их участием, но и их свадьба, после чего им была устроена триумфальная поездка в Париж (почти медовый месяц), но с массой выступлений и гигантской рекламой, которой ни один из крепостных актеров в истории России, конечно, не удостаивался. Это было поразительное соединение торжества великого русского искусства с блистательным успехом пропагандистской компании КГБ и ЦК КПСС. В СССР фильм показан так и не был: он все еще был слишком либерален и модернистичен для советского зрителя. Да и задача была другая.
Кое что даже из вполне государственных проектов доставалось и советскому зрителю. Поскольку начался возврат, правда, исключительно странам «народной демократии» художественных ценностей и архивов, вывезенных после войны советской армией, перед отправкой в ГДР в 1955 году ГМИИ вновь была смонтирована выставка картин из Дрезденской галереи (первый раз это произошло в 46-м году, когда планировалось все картины оставить в СССР, и даже была сделана попытка включить их в советские репарации, но даже их минимальная стоимость заставила бы отказаться от всего вывозимого из Германии промышленного оборудования и экспозиция была закрыта). Пергамский алтарь из Берлина, «Женщину с Горностаем» Леонардо да Винчи из Кракова в СССР, впрочем, не показали, как и множество других возвращенных шедевров, а экспонаты музеев и архивов из Западного Берлина, вещи, вывезенные при Гитлере из других стран (Голландии, Франции), вообще не рассматривались в качестве возвращаемых, но на всякий случай и не экспонировались в советских музеях, кроме странного «Антирелигиозного музея» в Исаакиевском соборе.
Впрочем, за редким исключением они остаются в тайных запасниках и поныне.
Но хотя бы перестали изымать из музеев и их запасников и уничтожать работы русских великих художников до этого признанных формалистами и не имеющими политической и художественной ценности.
После выставке картин Дрезденской галереи в Москве начались одна за другой выставки из советских собраний:
– в мае 1955 выставка французского искусства XV-XX веков
– в апреле 1956 — английского искусства
– в июне — выставка Рембрандта и его школы
– в сентябре — вновь французское искусство, но только XIX века
– в октябре — японское искусство
Что-то сдвинулось более существенно и в экспозиции русского искусства — 10 декабря 1956 года в Третьяковской галерее состоялась к столетию со дня рождения выставка гениального Михаила Врубеля (до этого — запрещенного).
В 1959 большая выставка Давида Штеренберга, в январе 1960 года уже вторичная большая, в выставочном зале на Кузнецком мосту выставка Роберта Фалька.
Одновременно сперва в букинистических магазинах было разрешено продавать немногие уцелевшие экземпляры книг (изданные в России до революции и в 20-е годы, но не в эмиграции) великих русских поэтов, прозаиков, философов, а в самых крупных государственных библиотеках, где были созданы для этих книг в 30-е годы отделы специального хранения, частью они были перемещены в открытые фонды (в небольших библиотеках по всей стране, где спецхранов не было, все эти книги были уничтожены).
9 февраля 1956 года в Колонном зале Дома союзов состоялся вечер к 75-летию со дня смерти «великого русского писателя» (название статьи в «Известиях») до этого запрещенного Федора Достоевского. Начато издание его собрания сочинений (правда, без «Бесов»). Открыт музей-квартира Достоевского.
В 1956 году в Ленинграде, в Большом драматическом театре вечер памяти Александра Блока.
Года с 1956-го очень осторожно книги начали даже переиздаваться: сперва вышли небольшие сборники Александра Блока, всенародно любимого Есенина, расстрелянного комсомольского поэта Иосифа Уткина, погибшего на фронте Павла Когана. Вышли книги Исаака Бабеля, Артема Веселого и даже сборники эмигрантов-классиков — рассказы Ивана Бунина, Шмелева, Куприна (он первый удостоился собрания сочинений, за то что перед смертью тяжело больной дал себя уговорить вернуться в Советский Союз). Году в 1961 был издан даже сборник стихов Марины Цветаевой, но без упоминания в предисловии Владимира Орлова о том, что вернувшись в СССР вслед за мужем и дочерью она покончила с собой от голода, нищеты и безысходности в Елабуге.
«Библиотека поэта» в большой и малой серии одного за другим издавала сборники великих русских поэтов. Начавшие выходить в Москве и Ленинграде ежегодники «День поэзии» тоже публиковали стихи и погибших и затравленных и охаиваемых русских поэтов. В сборнике 1963 года и я написал предисловие и из материалов хранившихся у вдовы Андрея Белого подготовил подборку его стихов — первую публикацию после 1940 года. Но главным, конечно, в «Днях поэзии» были стихи современных поэтов. У них, к несчастью, так и не образовался в Советском Союзе свой литературный журнал. Лучший из издававшихся тогда – «Новый мир», руководимый крупным и своеобразным поэтом Александром Твардовским, стихов практически не печатал. А это было время возвращения в литературу и первоклассной современной русской поэзии. Арсений Тарковский, Давид Самойлов, Семен Липкин, Аркадий Штейнберг, Борис Слуцкий, да и не только они, были, бесспорно, крупными, самостоятельными, сложившимися поэтами, которые только в эти годы (каждому было под пятьдесят) смогли издать по первой небольшой книге, а до этого десятки лет перебивались переводами «национальных» поэтов народов СССР и эти переводы всегда были лучше оригиналов. В одном анекдотическом случае — при выдвижении такого «национального» поэта на Ленинскую премию — оказалось, что оригиналов (подстрочника) вообще не существует, есть только русские якобы переводы. А были еще стихи Варлама Шаламова, Анны Барковой, Анатолия Жигулина и Валентина Португалова, вернувшихся с Колымы.
Но кумирами были другие поэты — молодые Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский и, пожалуй, более талантливые юные женщины — Белла Ахмадулина, Юнна Мориц. Были еще и по-прежнему лишь едва «проходимые», не стремившиеся к рекламе и популярности Александр Кушнер, Олег Чухонцев. На появившихся самодельных пластинках из рентгеновских снимков звучали песни по всей стране бардов Александра Галича, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора.
Поразительным, однако, было не количество русских поэтов (а я перечислил далеко, далеко не всех) и даже не их таланты и качество стиха — Россия знала золотой и серебряные века русской поэзии и 60-е годы все же не могут с ними сравниться — поразительным было то, что это были единственные годы в русской истории, когда вся страна была буквально заражена стихами. Выступления популярных (как правило — молодых) поэтов уже проходили не только в знаменитой аудитории Политехнического музея, где когда-то выступали Александр Блок, Маяковский и Андрей Белый, но как с легкой усмешкой сказала мне когда-то Анна Ахматова:
– Поэты уже выступают на стадионах.
Книги Евтушенко и Рождественского издавались тиражами по сто тысяч экземпляров (невероятный тираж для сборника стихов) и их невозможно было купить – «достать» – в магазинах. Тираж журнала «Юность» во многом благодаря тому, что их печатал, впрочем, как и популярных молодых прозаиков Василия Аксенова и Анатолия Гладилина, достиг фантастической для литературного журнала — небывалой в мире — цифры в пять миллионов. Поэтический восторг в годы правления Хрущева охватил страну. Знаменитый советский машинописный самиздат тех лет — одна из важнейших форм свободы печати — на самом деле, что почти забыто, начался, конечно, с поэзии. Уцелевших старых изданий Мандельштама, Гумилева, Цветаевой было слишком мало для миллионов людей жаждущих прочесть их стихи. Сперва это были перепечатки известных сборников, потом к ним прибавились скопированные рукописи «Воронежских тетрадей» Мандельштама, мюнхенского издания «Лебединого стана» Цветаевой, одновременно перепечатывались неизданные стихи современных поэтов: Наума Коржавина, Иосифа Бродского, Натальи Горбаневской, Бориса Слуцкого и многих десятков других поэтов — частью уже забытых. Перепечатывать «Доктора Живаго», «Размышления» Андрея Сахарова или переводить и перепечатывать «Постороннего» Альбера Камю, конечно, было гораздо труднее. Впрочем, в эти годы появились иногда блистательные самиздатские переводчики не только стихов, но и прозы. И поэтам хотя жилось чуть и легче, чем прозаикам.
Впрочем, интеллигенции никогда не давали забыть, что живет она в Советском Союзе. Хотя и был издан небольшой сборник стихов (в виде посмертной компенсации) Бориса Пастернака, и для смягчения дурной репутации теперь уже за рубежом после издания довольно большой книги стихов Анны Ахматовой, КГБ (по ее же мнению) способствовал получению ею почетной литературной премии в Италии и степени почетного доктора в Оксфорде. Один из крупнейших молодых поэтов того времени, но уже точно не комсомольский, впоследствии нобелевский лауреат, Иосиф Бродский был сослан, чтобы не обвинять его по политической статье, за тунеядство в северную деревню. В 1957 году в лагерь попал поэт Леонид Четков за организацию поэтического неофициального кружка «Мансарда», в Тбилиси за создание литературного кружка осужден В.А. Дунаевский, на третий срок в лагерь была отправлена поэт и прозаик Анна Баркова, первый свой срок получил известный впоследствии диссидент Александр Гинзбург за выпущенный им в 1960 году самиздатский журнал «Синтаксис» – в нем были стихи поэтов собиравшихся и читавших свои стихи возле памятника Маяковскому (впрочем «Маяк» – это совсем особая тема и мы к ней вернемся в отдельной главе). Все эти аресты шли на фоне просто массовых (не по сталинским меркам, конечно, а более поздним) арестов по политическим обвинениям. Особенно в 1957 году, когда они были предъявлены 2498 человекам (сторонникам и противникам Сталина, людям, возмущенным подавлением венгерского восстания). Число новых политзаключенных при Хрущеве было велико, что с очевидностью показала и сохранившаяся статистика, и книга Анатолия Марченко «Мои показания». Начало оно сокращаться, лишь иногда с досрочным освобождением осужденных, в 1958-1959 годах и реального игнорирования Указа 1956 года к концу правления Хрущева.
Небывалый в русской истории поэтический угар тех лет — сотни тысяч людей просто жили стихами — был не только своеобразной реакцией на внезапное дуновение небывалой и в общем, далеко не иллюзорной в с равнении с тем, что было этого, для тоталитарной коммунистической страны свободы.
Он создал две достаточно серьезные общественно-политические проблемы, одна из которых разрешилась довольно быстро и просто. Речь идет о личном испуге Хрущева, связанным с венгерским восстанием. Началось оно, по мнению Хрущева, после и в результате диспутов и выступлений в «кружке «Петефи», объединявшем десятки молодых литераторов с одинаковым отвращением относившихся и к коммунизму и к советской оккупации Венгрии, и к полному отсутствию демократических свобод. Испуганный информацией Ивана Серова о роли «кружка Петефи» Хрущев не только настоял на принятии постановления об ужесточении наказаний за нарушения общественного порядка, которое и стало причиной участившихся арестов 1956-57 годов, но до этого плохо понимая положение в советской литературе в 1957 году обуреваемый идеей об «ответственности власти и безответственностью интеллигенции» сперва на встрече с руководством Союза писателей СССР (естественно, ультрапартийным) прямо обвиняет этих литературных бонз в попытке свергнуть советскую власть, что звучит совсем уж бредом в Москве в то время.
Знаете, как в Венгрии началось? – говорит Хрущев — Все началось с Союза писателей. Там организовался Клуб Петефи, а потом началось восстание. Так вот, не будет вам Клуба Петефи. Не допустим.
23 мая 1957 года на встрече с писателями в Семеновском, готовясь к пленуму, где пойдет речь об отставке Молотова, Хрущев вводит писателей в политическую борьбу внутри Президиума ЦК КПСС. Между тем сами писатели озадачены возможностью получить личный гараж, в лучшем случае — возможностью издать те или иные книги, но совсем не сутью основных политических перемен в Советском Союзе. Вскоре все мелкие проблемы будут решены: Леонид Соболев получит гараж, Дудинцев на время будет раскритикован, но вскоре роман его выйдет отдельной книгой, издание либеральных сборников «Литературная Москва» (хоть на пять процентов близких «Кружку Петефи») будет прекращено, будет создан, ставший оплотом национально-коммунистического сознания «Союз писателей РСФСР» (во всех республиках есть свои Союзы писателей, только в России не было). Испуг Хрущева вскоре прошел, разочарование в советских писателях — осталось, ближайшие пять лет (до 1962 года) они его не будут интересовать, кроме случайного разрешения опубликовать «Синюю тетрадь» Эммануила Козакевича. Для Хрущева все это слишком мелко и неважно.
Более любопытной стала собственно общественно-политическая проблема связанная как раз с упомянутым выше поэтическим восторгом, в котором жила страна. Журнал «Юность», далеко не революционный (хотя и печатавший изредка стихи Шаламова), но бесспорно журнал и символизирующий и укрепляющий атмосферу обновления, наступившей в стране оттепели, своим фантастическим многомиллионным тиражом, а следовательно и соответствующей тиражу аудиторией был, конечно, никогда не оцененной и до конца не использованной общественной силой. В главе о Шелепине будет рассказ о том, как «младотурки» пытались его захватить, к сожалению многолетний главный редактор журнала, человек с достаточно сложной биографией — Борис Полевой не оставил никаких записок. Одно вполне очевидно — только при постоянном покровительстве Суслова мог выходить, оставаться достойным и удерживаться как и Суслов в условиях менявшейся политической обстановки этот адресованный всем, кто хотел мало-мальски цивилизованной жизни журнал. Иначе он просто не получил бы дефицитной в СССР типографической бумаги, необходимой для многомиллионного тиража. Впрочем, с самыми известными его авторами велась «успешная» работа. Евтушенко не только писал отчеты о всех своих поездках и разговорах заграницей в икокомиссию Союза писателей (КГБ), но и послушно «заклеймил» в выступлении на встрече с Хрущевым и Александра Гинзбурга и Есенина-Вольпина. Вознесенский, чтобы вернуть к себе доверие власти, послушно написал поэму о Ленине «Лонжюмо», Аксенов книгу о «пламенном революционере» Красине. Все это очень высоко оплачивалось. И все же бесспорным свидетельством реального недолгого расцвета русской культуры в эти годы стала русская проза по сути своей, конечно, гораздо более значительная, содержательная, вновь как и когда-то ставшая высоко профессиональной, достойной традиции русской классической литературы.
История ее становления-восстановления началась тем не менее в 1954 году с увольнения в первую очередь за прочитанную коллегам Александром Твардовским сатирическую поэму «Теркин на том свете». Это был первый разгром «Нового мира» и формальным основанием для него послужила статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» по сути дела подрывавшая основы социалистического реализма. Померанцев не перечисляет классику сталинской эпохи: «Кавалер золотой звезды» Семена Бабаевского, «Жатву» Галины Николаевой, «Цемент» Федора Гладкова, но из его статьи становится ясно, что все это — литература, основанная на преднамеренной лжи. Вскоре, однако, выяснилось, что Твардовским была прочитана вслух в редакции советским писателям и поэтам своя пугающая поэма. Начался форменный, в лучших сталинских традициях, разгром и происходил он по инициативе партийных органов, но с активным участием советских писателей и, как мы увидим, далеко не простой, ролью самого Хрущева.
«Мы — ленинцы, мы сталинцы», – сказал он на специальном заседании секретариата ЦК по этому поводу28. Хрущев в этой истории, видимо, возлагал надежды на умеренную позицию далеко не сталиниста, образованного и почти интеллигентного Дмитрия Шепилова и для первого секретаря было большим разочарованием, что именно он оказался инициатором погрома, который претерпел журнал, да еще и занял очень жесткую позицию.
По тому, что мы знаем об этом, видно, как Хрущев все пытается спустить на тормозах. Сам он клянется в верности Ленину и Сталину, явно вынужденно называя Твардовского человеком политически незрелым и малопартийным (Хрущев вынужден считаться не только с доносами Константина Симонова и Валентина Катаева, но и с явно поддерживающим их позицию секретаря ЦК П.Н. Поспелова), но тем не менее говорит, что нельзя списывать Твардовского со счетов литературы и разгромного решения ЦК по журналу принимать не следует. Хрущев не хочет повторения докладов Жданова о журналах «Звезда», «Ленинград», хотя в поэме Твардовскго уже находят крамолу несопоставимую со стихами Ахматовой и рассказами Зощенко. Симонов выделяет термин «загроббюро», считая его аналогом политбюро, сам Хрущев упоминает «полчок» солдат, который потеснил бы «царство мертвых».
– Это что угроза? Бунтовщицкий намек что ли?.
Но при этом Хрущев как может отводит Твардовского от удара. Сам приглашает поэта в ЦК и прямо ему говорит о ненужности какого-либо постановления ЦК о «Новом мире». Но в ЦК Хрущев пока может далеко не все. Третьего августа 1954 года Твардовскому объявляют постановление ЦК об ошибках «Нового мира». Единственное, что удается отстоять Хрущеву — это постановление ЦК не публикуется, не становится сигналом всей стране для уничтожения мало-мальски либеральных попыток обновления культуры, к которому явно стремятся и Молотов, и Каганович, и Ворошилов, да и другие члены «коллективного руководства». Твардовский просто отстранен от редактирования для «возвращения к творческой работе».
Твардовский возвращается в 1958 году в «Новый мир» и хотя это происходит после официального осуждения повести Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» и через год после политической свистопляски по поводу романа Пастернака, которую Твардовский воспринимает только как литературную, основанную на не совсем точном поведении самого Пастернака, ему Хрущев уже дает понять, что повторения этого уже не будет. И вокруг «Нового мира» создается новое направление русской (советской ли?) литературы и критики. И именно эта знаменитая атмосфера «Нового мира» во многом окажется определяющей для русской общественной жизни на много десятилетий вперед, станет одним из объяснений причины поражения Хрущева с его реформами и как это ни странно звучит — русской катастрофы 1991 года.
Оказалось не понято само название опубликованной, кстати говоря, не в «Новом мире», а в журнале «Знамя» повести Ильи Эренбурга «Оттепель», ставшее самоназванием всей хрущевской эпохи и обобщением идейного и творческого содержания журнала «Новый мир», руководимого Твардовским. Уже изначально в термин «оттепель» звучала отсылка к русской жизни шестидесятых-семидесятых годов XIX столетия, ко времени великих реформ императора Александра II, в первую очередь из них — к освобождению крестьян и отмене цензуры.
Основополагающе лживым и катастрофически опасным для русской общественной жизни и в конце концов государственного будущего России название «оттепель» было из-за двух вводящих в заблуждение посылок. Во-первых, император Николай I был, конечно, далеко совсем не лучшим из русских государей, его и внешняя и внутренняя политика вполне закономерно закончилась катастрофой Крымской войны, но он не был ни уголовником, ни патологическим убийцей и садистом как Иосиф Сталин, а его представления о благе русского народа не имели ничего общего с представлениями коммунистического изувера. Соответственно, жизнь русских крепостных крестьян в первой половине XIX века нельзя было назвать обеспеченной и свободной, но она не имела ничего общего ни с лагерями Колымы, Воркуты, Тайшета, ни даже с колхозным бытом вымирающей от голода русской деревни. Хрущев, возвращая миллионы людей из лагерей и пытаясь хоть как-то накормить (хотя бы хлебом) русский народ, уходил далеко не от царствования Николая I и называть его реформы «оттепелью» значило скрывать их суть и недавнюю чудовищную русскую катастрофу. В этой лживости, соответствующей названию «оттепель», была и важнейшая причина провала реформ Хрущева (как, впрочем, и Александра II) оба медлили, по выражению Черчилля, пытались перепрыгнуть пропасть в два приема и когда оказались готовы осуществить все то, что надо было делать с самого начала для обоих это оказалось поздно: для Хрущева в 1964 году, для Александра II — в 1881-м.
Кроме того, в определении «оттепель» содержалась ошибка, которую Эренбург благодаря своему тесному сотрудничеству с советскими властями в самые страшные годы, а потому не замкнутый в советском мирке, да и вообще понимавший многое в жизни и искусстве XX века, вероятно, и не хотел навязывать читателю, да и всему общественному сознанию России и в первую очередь тем сотням тысяч советских интеллигентов для кого светом в окошке был журнал «Новый мир». Термин «оттепель» возвращал их на сто лет назад, создавал иллюзию, что пусть не Советский Союз, но весь окружающий мир за эти годы не изменился. Для советской интеллигенции было глубоко органичным и внутренне важным представление, что в России, конечно, произошли гигантские (кто-то считал — катастрофические, кто-то исторически неизбежные и положительные) перемены, но вот весь остальной мир совсем не изменился и остался даже не таким, каким было сумбурное и непонятное начало ХХ века, а таким, каким был в стабильном, надежном, морально и нравственно уверенным в себе во второй половине XIX века. Это заблуждение, непонимание катастрофических результатов для европейского сознания Первой мировой войны и произошедших в нем перемен сперва были внутренней проблемой русского общества, а в годы горбачевских реформ и захвата власти КГБ в девяностые годы стали причиной непонимания и разочарования как в европейских ценностях в целом, так и в демократических началах государственного устройства, вообще. Оно оказалось гораздо более сложным, чем полагала русская интеллигенция. И главным источником и распространителем этого заблуждения стал журнал «Новый мир». Как по заказу его редактором стал крупный русский поэт, все творчество которого и в первую очередь самое знаменитое произведение — поэма «Василий Теркин» просто неотделима от традиции русской крестьянской поэзии: Ершова, Никитина, Сурикова, в лучшем случае – Некрасова. Кажется, что «Теркин на том свете» просто написан прожившим полторы сотни лет автором гениального «Конька-горбунка». Естественно и литературные вкусы Твардовского были соответственными, что для редактора лучшего литературного журнала во второй половине ХХ века было уже не очень хорошо. Для «Нового мира» образцом стали «Современник» Николая Некрасова и «Русское богатство» Михайловского и Короленко.
Литературная жизнь казалась похожей. Как в 60-е годы XIX века казались устаревшими и лживыми романтические повести Бестужева-Марлинского и им на смену пришли взятые из реальной жизни «физиологические очерки» , рассказы и повести Николая и Глеба Успенских, Слепцова, Помяловского, так же и в «Новом мире» на смену сталинским романам о «борьбе хорошего с отличным» пришли авторы деревенской прозы — Василий Белов, Борис Можаев, Сергей Залыгин, Валентин Распутин, чья проза была не просто правдивой, но бесспорно талантливой, профессионально и крепко написанной. Какая-то часть прозы «Нового мира» читается как первоклассная литература и сейчас — через полвека — и, конечно, будет читаться. И все же в середине XIX века проблемы русской деревни — «крестьянский вопрос» был не только вопросом гуманистическим и нравственным, но и основным вопросом переустройства всей русской жизни, всей российской империи. В середине ХХ века все сюжеты стали еще более трагическими, деревенская проза (кроме «Живого» Можаева, конечно) все больше переходила в надгробное рыдание, но будущее России определялось не «Плотницкими рассказами».
Публицистика и критика «Нового мира» в эти годы сравнявшиеся по влиянию и вниманию читателей (как и сто лет назад) с прозой тоже были очень «оттепельными». По своей идеологии они были одновременно народническими и раннемарксистскими. Близкий друг Твардовского и член редколлегии «Нового мира» Игорь Александрович Сац (спасший мне жизнь своим телефонным звонком начальнику Верхнеуральской тюрьмы) был не только в ранней молодости участником революции (в отрядах Николая Щорса), а позже секретарем Луначарского, но энциклопедически образованным человеком, да к тому же младшим братом Ильи Саца — знаменитого композитора Художественного театра, но, как и их общий друг философ Михаил Лифшиц, убежденным идеологическим сторонником марксистского учения. Примерно такими же не сталинистами и даже не ленинцами, но убежденными «неомарксистами» были и другие работающие члены редколлегии и ведущие критики в журнале Борис Закс, Алексей Кондратович, Александр Дементьев, Владимир Лакшин. С их точки зрения целью журнала, его прозы, публицистики, критики было воссоздание добротной, правдивой русской литературы и все новых «крамольных» откровений – правды о советской истории. В, с большим трудом опубликованной, «Синей тетради» Эммануила Казакевича рассказывается о том, как в пресловутом шалаше в Разливе в 1917 году Ленин не только был не один, а был вместе с «врагом народа» расстрелянным Зиновьевым, которого к тому же он называет товарищем. В одной из публикаций рассказывалось о том, что не было пресловутого выстрела крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу, как и не было выдуманного Эйзенштейном его штурма. В другой — внятно описывался маленький негодяй и советский герой Павлик Морозов, донесший на своего отца, которому все еще в Москве стоит памятник на Пресне. И так далее.
Твардовскому казалось, что он воссоздает великую русскую литературу и правду о нашем прошлом, на самом деле все это было вариантом хрущевско-оттепельных политических успехов или неудач. Публикации журнала были посвящены не тому, что определяло жизнь России в ХХ веке, и по сути своей были слишком мелкими и робкими в сравнении с советским прошлым не только потому, что цензура мешала, но главным образом потому что они сами боялись осознать это прошлое. А если прибавить, что и проблем ХХ века они не понимали и боялись, то становится ясным, что их политическая игра просто должна была закончится не просто разгромом журнала, когда двусмысленность «оттепельного» времени ушла в прошлое, но и внутренне — когда они встретились с подлинной действительностью. По-видимому, подспудно, как и Хрущев, они стремились к постепенному ее осознанию, но оставались, как и Хрущев в эти годы, не готовыми к серьезным реформам и беспощадным разоблачениям русским обществом изуверского и рабского его недавнего прошлого. Это было не возрождение русской литературы и правды о положении русского народа и государства, а та же обреченная на неудачу политика Хрущева перепрыгивания пропасти в два, а то и в пять шажков, но только в области культуры и общественной жизни. Вся редакция «Нового мира» потерпела подлинное внутреннее, а не официальное поражение, когда они встретились с настоящим и беззастенчивым политиком — Александром Солженицыным.
На первый взгляд появление в редакции Александра Солженицына, удавшаяся публикация «Одного дня Ивана Денисовича» были подлинным триумфом «Нового мира», блестящим, наконец, подтверждением всех его целей и основополагающих для самого Твардовского и всей редакции принципов и предпочтений. У Солженицына было буквально все:
– повесть (практически рассказ) казалась внезапно и к счастью появившейся подлинной достоверной правдой о самой больной и нужной для журнала и российского общества теме — советских лагерях, где погибли или были искалечены миллионы ни в чем не повинных людей;
– с другой стороны герой — человек простой, крестьянин, не озабоченный вселенскими проблемами;
– к тому же в рассказе чувствуется некоторый оптимизм автора — это благополучно прожитый день и можно надеяться на такие же дни в будущем;
– есть в лагере и положительные персонажи, это — бригадир, и — кавторанг (капитан второго ранга), то есть человек ранее партийный, не потерявший достоинства и добрых качеств, отстаивающий советские законы в этих очень трудных условиях (характеристики и этого персонажа, столь важного для публикации в советском журнале, Солженицын впоследствии тоже несколько видоизменил).
Наконец, сам Солженицын был все испытавшим, но не московским интеллигентом, а провинциальным (из Рязани), никому не известным школьным учителем, а его проза была в столь любимой Твардовским классической русской традиции Короленко и Писемского.
Влюбленная в Солженицына вся редакция «Нового мира», и в первую очередь сам Твардовский, обнадеженный антисталинским выступлением Хрущева на XXII съезде партии, а в этом же был расчет и самого Солженицына, делали все, что могли, чтобы повесть была напечатана. Как это удалось много раз описано и я не буду повторять, замечу лишь то, что не смогла, не захотела увидеть в «Одном дне Ивана Денисовича» редакция «Нового мира», хотя сегодня приходится говорить о той первой 1962 года редакции повести, а не ее со временем улучшенного, серьезно измененного варианта.
Во-первых, достойной доверия, бесспорной правды в повести Солженицына все же не было — был холодный расчет, что именно и с какими необходимыми для данных условий 1962 года допущениями может реально появится в печати. К подобному расчету подробно им описанному в «Теленке…» можно было бы относиться без предубеждения — так вынуждены были поступать почти все советские писатели, но все же не все, а «почти все». Этого не делали те — Шаламов, Гроссман, кто страшную правду о советской действительности, во-первых, не считал возможным делить на «проходные» в печати и «непроходные» части, и, во-вторых, и что главное, для них эта записанная ими правда была важнее собственного литературного успеха. Солженицын был другим, его расчет полностью оправдался, но результаты такого отношения к русской литературе и трагической правде русской истории он не умел просчитать. К тому же у Солженицына был не такой уж долгий опыт пребывания в северных лагерях и что-то в повести могло быть просто результатом недостаточного знания.
Умирающий от голода и холода человек, теряющий последние остатки сил на изнурительной, непосильной для него работе, не может этой работе радоваться, что так понравилось и Твардовскому и другим критикам, ничего подобного не испытавшим (но позже было смягчено в окончательном тексте).
Бригадир в лагере не может быть положительным персонажем: по самой своей должности это убийца, принуждающий едва живых, изможденных людей к непосильной работе, которая неизбежно и быстро их убивает.
И весь этот мир, где смерть ждет человека на каждом шагу, в любое мгновение, пока в нем по недоразумению еще теплится затухающий огонек жизни, описан в канонах и даже почти языком тургеневской повести с завязкой, развитием сюжета, кульминацией и развязкой. И в этой лживости старомодной, не соответствующей ужасу российского ХХ века, да и самому ХХ веку литературной формы и заключено основное политиканство, а не художественное постижение советского прошлого.
По грустной иронии судьбы сотрудники «Нового мира» регулярно встречали человека, который мог бы все это (и многое другое) объяснить и Твардовскому и другим членам редколлегии журнала. Великий русский писатель Варлам Шаламов все эти годы, живя в Москве подрабатывал внутренними рецензиями в отделе прозы у Анны Семеновны Берзер, которая так любила и хорошо понимала либеральную прозу Виктора Платоновича Некрасова, Эммануила Казакевича и других и, конечно, читала уже в большинстве своем написанные «Колымские рассказы». Но этот открытый как у Данте новый чудовищный мир, эта совсем новая небывалая природа человеческого бытия, проявленная колымскими лагерями — все казалось совершенно неподходящим для «Нового мира».
Не зная о том, что Шаламов бесспорно показывал свои вещи Берзер, я, с его согласия, дал его рассказы Сацу для показа Твардовскому — году в 1963-м, после оглушительного успеха «Одного дня Ивана Денисовича».
– Это какие-то очерки, нам это не интересно, – передал мне Игорь Александрович слова Твардовского, к несчастью, неспособного понять даже блистательную, новаторскую литературную форму рассказов Шаламова.
Впрочем, Солженицын тоже лукаво рекомендовал Твардовскому Шаламова — он принес шаламовские стихи, конечно, точно зная, что чужих стихов Твардовский не печатает.
На самом деле все это не имело никакого значения, ни «Новый мир», ни любое другое издание в Советском Союзе не были готовы осознать беспощадную правду Варлама Шаламова, понять его подлинно новаторскую прозу «настоящего, не календарного ХХ века».
Но только Шаламов мог спасти редакцию (хотя бы только советом) и пониманием сути дела от величайшего унижения.
До сих пор не очень понятно зачем Солженицыну, в его последние советские годы до насильственной эмиграции, понадобилось писать «очерки литературной жизни» – «Бодался теленок с дубом». По каким-то причинам ему понадобилось надеть личину борца не просто с советским режимом, что было вполне очевидно после публикации «Архипелага Гулаг», но и со всем либеральным и во многом ущербным, но безумно его любившим, почти поклонявшимся ему, появившимся в хрущевские годы советским общественным движением, а в первую очередь с теми, кому он был буквально всем обязан — сотрудниками «Нового мира». Ясно, что это была очередная политическая задача этого самого политического, хотя и не самого талантливого и честного русского писателя.
Литературная судьба Солженицына, как известно, была необыкновенно удачной. В XVIII веке сказали бы, что он попал «в случай». Если бы не Твардовский «Один день Ивана Денисовича» не был бы напечатан не только потому, что Лебедев — секретарь Хрущева не стал бы ему читать повесть, но и потому, что 1962 год — это год самый сумбурный, самый сложный для Хрущева, когда он мечется принимает внешне совершенно противоречащие друг другу решения. На самом деле направленные только к одному — продолжению гораздо более радикальных, чем раньше реформ, а для этого — удержания власти. Его антисталинское выступление на XXII съезде КПСС представлявшееся многим современникам и историкам случайным, не подготовленным, спонтанным, на мой взгляд, было решительным движением вперед, от поражений в своих хозяйственных реформах к новым гораздо более радикальным шагам. Объявить о них он не мог, даже публикация Солженицына далась ему с большим трудом, на новое антисталинское выступление Хрущев согласия в Президиуме бы не получил, но бросился в бой и, возможно, одержал бы победу, если бы не Куба и Новочеркасск. К литературе Хрущев относился только как форме государственно-политической жизни (что мы видим и в первом разгроме «Нового мира» и истории с «Доктором Живаго») и решив печатать «Один день Ивана Денисовича» ни минуты не думал, ни о сильно преувеличиваемых Твардовским его художественных достоинствах, ни о достоверности всего описанного. Хрущев в отличие от редакции «Нового мира» хорошо понимал, что «Иван Денисович» – это еще один шажок от сталинского прошлого к идиллическому советскому будущему, в 1962 году уже понимал, что делает эти шажки в воздушном пространстве между двумя утесами, но все еще надеялся на что-то здесь опереться, хотя опоры уже не было.
Так или иначе, но Солженицыну всех, кто его необыкновенно любил, во всем ему помогал (уже в вполне отчаянном положении в «Новом мире» выплачивали ему гонорары за неопубликованные книги, выдвигали его на Ленинскую премию и в конце концов своими статьями, выступлениями, восторгом помогли получить Нобелевскую), понадобилось описать как противников, глубоко им презираемых, но которых он всех смог победить и только так добился всемирной славы. Помню, как летом 1968 года на меня публично отказавшегося в редакции журнала «Вопросы литературы» подписать коллективное поздравление Солженицыну, для меня — человека молодого, лично незнакомого и не слишком ценимого, как писателя, в связи с 50-летием с недоумением и даже недоверием смотрели все собравшиеся. К счастью, Твардовский до времени выхода «Теленка» не дожил, но оскорбление нанесенное писателем-политиком всей остальной редакции «Нового мира» было безмерным. Тем более, что автор призывал «жить не по лжи», а в ряде случаев уже довольно далеко отступал от правды. Много из оскорбленных в прошлом безудержных почитателей и помощников Солженицына сочли необходимым написать ответ. Сперва Владимир Лакшин и Лев Копелев, потом сатирическую повесть — Владимир Войнович, недавно целый том Бенедикт Сарнов.
Это был наиболее явный итог политического слагаемого «оттепели» в русской общественной жизни, ее полуправды и иллюзорного возвращения в XIX век.
К счастью, взлет (скорее расцвет) русской литературы в годы правления Хрущева не ограничивался одной редакцией «Нового мира».
За эти годы успели выйти «Тарусские страницы», два тома альманаха «Литературная Москва» с первой публикацией стихов Цветаевой и многим другим. Даже вполне ортодоксальные журналы, чтобы повысить свой тираж и известность вынуждены были печатать: «Москва» – «Мастера и Маргариту» Булгакова и подборку стихов Мандельштама, даже «Октябрь» – лагерные рассказы Владимира Максимова, а уж о провинциальных журналах и говорить нечего – «Литературная Грузия», «Литературная Армения», «Байкал» и многие другие поочередно печатали Андрея Белого и Пастернака, братьев Стругацких и Белинкова. Правда, редактор «Байкала» был тут же уволен (что он и предвидел), третий том «Литературной Москвы» – запрещен, рукопись одной из важнейших книг того времени Василия Гроссмана «Человек и судьба» была конфискована. Сначала у приятеля освободившегося из лагеря Павла Улитина в 60-е годы изъяли часть его рукописи «Анти-Асаркан», а потом пришли и к автору и забрали у него все рукописи. Борис Полевой принудил написать и опубликовать покаяние Варлама Шаламова — но это уже было позже — когда другой колымчанин — Аркадий Белинков смог сбежать из Советского Союза. Наступило состояние обманутых надежд, о чем довольно верно в первой серии недавнего сериала «Оттепель» рассказал Валерий Тодоровский – «надеялись, что это весна, а это оттепель» звучит в нем постоянным рефреном. И все же хотя постепенно отдельные публикации стихов Осипа Мандельштама, Андрея Белого и даже Пастернака сменились почти исчерпывающими томами Большой серии «Библиотеки поэта», но с помощью Сиротинской КГБ поставило под контроль, а вскоре и получило почти все рукописи Шаламова. С соседом Шаламова по Колыме, вернувшемся в Харьков Георгием Демидовым, поступили грубее — все рукописи просто изъяли. Агитпром Михаила Суслова при Хрущеве, да и первые годы после него, так удерживал шаткое равновесие в стране. Удавалось как-то обманывать цензуру и КГБ в литературе только братьям Стругацким. Их поразительная по смелости и художественному мастерству социальная фантастика, конечно, плохо печаталась (за их книгу и «Олешу» Белинкова и был снят редактор «Байкала»), но все же не изымалась КГБ и только они тогда же смогли внятно описать и надежды связанные с оттепелью и разочарование в ней.
Но сейчас, уже глядя издалека в этот хрущевско-сусловский период правления русской литературой приходиться, во-первых, подвести блистательные итоги русской литературы этих лет. Только благодаря созданной Хрущевым и Сусловым атмосфере обновления, свежего дыхания в России мог быть дописан «Доктор Живаго» Пастернака, написаны «Колымские рассказы» Шаламова и «Человек и судьба» Гроссмана. Блистательная плеяда русских прозаиков «Нового мира», да и не только его — Астафьев, Можаев, Войнович, Белов, Распутин, Владимов, Искандер — и это, конечно, не полный список, вновь восстанавливали в эти годы достоинство и высокое художественное мастерство великой русской литературы. А если прибавить к ним тончайшие пьесы Вампилова, «Архипелаг Гулаг» Солженицына, имевший в истории русской публицистики, точнее — в русской истории, такое же значение, как проповеди протопопа Аввакума и статьи Льва Толстого, то становится ясно, что именно эти годы были временем блистательного расцвета русской литературы.
С другой стороны легко представить себе, что если бы все эти книги были опубликованы в недолгие годы правления Хрущева, если бы тираж «Нового мира» был не сто тысяч экземпляров, а пять миллионов, как у «Юности», то достойное и естественная тяга русской литературы к полной до конца высказанной правде бесспорно привела бы к социальному взрыву, где на одной стороне были бы сотни тысяч безоружных и очень различных правдолюбцев, на другой — хорошо организованная и вооруженная многомиллионная часть страны воспитанная Сталиным, для которой историческая и человеческая правда существенно менее важна, чем достигнутое положение в обществе и боязнь ответственности за все, что ими было совершено. Стремление к правде у русской интеллигенции не было подкреплено ни способностью управлять страной, ни способностью сохранить власть. Все это мы увидели в 1991 году, с последовавшим распадом страны, где на значительной ее части восторжествовал самый злобный тоталитаризм, с поражающими жестокостью войнами в Чечне, нищетой и голодом миллионов людей и теперь — оккупацией Крыма и новой попыткой противопоставить Россию всему цивилизованному миру.
Таким образом, самым важным в эти годы было именно то, чем был занят Суслов — поддержанием стабильности в стране и дальнейшего правления Хрущева. И тогда, учитывая планируемые им новые радикальные реформы, вероятно, и проза Шаламова и «Жизнь и судьба» Гроссмана были бы как сперва запрещенная сатирическая поэма Твардовского «Теркин на том свете» были бы опубликованы не через двести, а через восемь лет, тем более, что убийства писателей, как это произошло с Богатыревым, Галичем, едва уцелел Войнович начались после сравнительно очень мирного свержения Хрущева.
Впрочем, и министры культуры СССР в эти годы не интеллектуалы, но в общем приличные — сперва Михайлов, потом — Фурцева. Но ведь оттепель далеко не ограничивалась литературой. Кроме общего оживления общественной жизни были еще театр, кино, музыка. При неизменной поддержке Фурцевой в эти годы шло бесспорное обновление и омоложение театра. Началось все, естественно, с гастролей. Тексты драматических спектаклей, естественно, понимались плохо, но в 1956 году приехал знаменитые французские актеры Ив Монтан и Симона Синьоре, и Монтан пел с оглушительным успехом, парижские песни почти вытеснили советские, но тут Монтан стал критиковать СССР и о нем постарались забыть. Приезжали театры поражавшие своим современным и очень профессиональными постановками из Чехословакии и Польши. Впрочем, «Дон Жуан», привезенный Парижским национальным народным театром, был встречен с восторгом. 15 апреля 1956 года показала свой первый спектакль, созданная при МХПТ’е, студия «Современник», уже в октябре ставшая самостоятельным театром. В «Доме кино» один из центральных актеров в театре Таирова — Александр Румнев успел создать первый в СССР театр пантомимы (с Евгением Харитоновым и Александром Орловым в основных ролях) и почти затмил приехавшего на гастроли знаменитого французского мима Марселя Марсо, молодежная труппа театра им. Моссовета (при поддержке Завадского) ставила самые сложные сюрреалистические пьесы Фредерика Гарсия Лорки «Кровавая свадебка» и другие, что проходило, через театральную цензуру лишь потому, что поэт был убит франкистами. Это был первоклассный русский театр ХХ века. Мейерхольдовец Эраст Гарин смог сперва поставить в том же театре — студии Киноактера «Мандат» Эрдмана когда-то один из знаменитых спектаклей в театре Мейерхольда, а позже уже в кино «Веселые расплюевские дни» по Сухово-Кобылину. Естественно, очень больший интерес вызывали театры, хотя и меньший, чем поэзия, но эти блистательные постановки не имели такой защиты, как вполне обновленные, в духе революционной романтики (за первым спектаклем 23 апреля 1964 года «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Бехта последовали уже упоминавшийся «Десять дней, которые потрясли мир» Юрия Любимова в театре на Таганке) или романтики современного комсомольского энтузиазма («Вечно живые» Розова, с которых начался театр «Современник»). Так же осторожно, как в «Новом мире» открывала страницы революционного и советского прошлого трилогия Михаила Шатрова «Декабристы», «Народники», «Большевики» в том же «Современнике», а недолго — до запрета — довольно слабая, но о советских лагерях, пьеса Солженицына «Олень и шалашовка».
Это обновление, возрождении русской культуры происходило не только благодаря осторожному влиянию Суслова, но и неустанным усилиям развивавшейся вместе с советской культурой Екатериной Алексеевной Фурцевой, которая став после спасения Хрущева от антипартийной группы членом Президиума ЦК КПСС слегка потеснила Суслова в его руководстве советской культурой. К тому же она стала из секретарей Московского горкома одним из очень влиятельных секретарей ЦК КПСС. Фурцева смогла не только продолжить и расширить обмен художественными выставками советских музеев с крупнейшими музеями мира, гастроли знаменитых еврейских и американских театров в Советском Союзе, прокат в СССР лучших кинофильмов того времени, организацию Московского кинофестиваля и конкурса имени Чайковского. Личная симпатия к Олегу Ефремову позволили театру «Современник» поставить на своей сцене пьесы Шатрова и Вампилова, которые оказывались «непроходимыми» в советской печати в своем первоначальном — литературном виде (литературу курировал отдел «Пропаганды и агитации» ЦК КПСС более осторожный Суслов).
Неожиданное решение принятое на XXI съезде КПСС о невключении Фурцевой в число членов Президиума ЦК, но сохранение за ней поста не авторитетного в Кремле министра культуры, довольно болезненно сказалось на культурной атмосфере в стране. Леонид Ильичев — новый куратор вопросов культуры в Советском Союзе, хотя и поддерживал многие прежние инициативы Фурцевой, сам ни такой заинтересованности, ни такой настойчивости в решении «сложных идеологических вопросов», какая была у Екатерины Алексеевны, как правило, не проявлял. Уже была создана порученная ему конституционная комиссия и он понимал, что это гораздо более важная задача А с 1 декабря 1962 года, когда в Манеже Хрущев на него возложил ответственность за недосмотр в художественной жизни страны, Ильичев послушно сам выступал, правда с осторожными, докладами об усилении идеологической борьбы с «западничеством» в советской культуре.
Впрочем, многое в культурной жизни страны сохранялось по-прежнему.
Совершенно в традициях «оттепели» Александра II на филологическом факультете Московского университета начались открытые лекции академика Аверинцева, молодого тогда, но уже очень известного структуралиста Бориса Успенского, в Тарту «Блоковские конференции» Юлия Лотмана. Вечера Льва Шилова со спасенными им записями голосов Блока, Белого, Мандельштама, выступления приехавшего в Москву знаменитого ОПОЯЗ’овца Романа Якобсона, концерты группы «Мадригал» Андрея Волконского с музыкой европейского барокко, впервые исполняемой на старинных инструментах — все это создавало совершенно иной климат, если не во всей стране, то хотя бы в Москве.
«Новый курс» Хрущева, обновление общественной и культурной жизни, воспринимавшееся как возвращение к большей свободе первых послереволюционных лет, зачастую, поддерживали многие ветераны коммунистического движения или их дети. Лев Шаумян сын бакинского комиссара Степана Шаумяна — один из самых активных деятелей освобождения политзаключенных — стал одним из руководителей издательства «Большая советская энциклопедия», где отдельная «Философская энциклопедия» значительно расширяла сформировавшиеся при Сталине рамки марксистского-ленинского учения, а, главное, давала хотя бы общее представление о европейской философии XX века, «Краткая литературная энциклопедия» (в десяти, однако, больших томах), где главным редактором был В.В. Жданов, включала в себя почти внятные статьи обо всех расстрелянных и забытых русских писателях, и впервые о многих, даже не очень крупных писателях русской эмиграции. Я напечатал там около сотни мелких статей, но редакция даже приветствовала мое расширение словника энциклопедии за счет все новых и новых писателей, как из числа расстрелянных, так и из тех, кто уехал на Запад. Да и представление о европейской культуре в статьях КЛЭ не имело ничего общего со статьями все еще печатавшихся во множестве книг и журналов. присяжных советских критиков. А была еще и «Театральная энциклопедия» ничем не хуже литературной. Во всех энциклопедиях возвращение забытых и погубленных имен происходило гораздо более целенаправленно полно и точно, чем в мемуарах Эренбурга.
Но особенно важным было то, что благодаря политике открытости Никиты Хрущева, благодаря неутомимым хлопотам Екатерины Алексеевны Фурцевой — в эти годы члена Президиума ЦК КПСС, курирующего все вопросы культуры, – во второй половине пятидесятых и первой — шестидесятых годов Москва впервые в своей истории ненадолго стала одной из культурных столиц мира. Упоминавшиеся художественные выставки из крупнейших музеев мира вызывали ответные выставки из музеев Москвы и Ленинграда — в первую очередь, конечно, импрессионистов из национализированных коллекций Щукина и Морозова, но вскоре и Рембрандтов и все еще не показываемых советским людям шедевров Кандинского и Шагала. Уже в 1980 году состоялась в Москве и Париже грандиозная выставка «Москва-Париж» впервые показавшая рядом, сравнившая, сопоставившая шедевры великих художников Франции и России. Конечно, в это время не было уже в Кремле ни Хрущева, ни Фурцевой, но сама эта выставка (как и последовавшая «Москва-Берлин») стала возможной, вчерне начала готовится еще в годы хрущевской «оттепели».
И все же, как я упоминал говоря о Фурцевой, самое главное в области культуры в эти хрущевские годы происходило, мне кажется, в музыке и в кино. Сперва о музыке. Вначале, благодаря настойчивым усилиям американского (русского по происхождению) импресарио Сола Юрока, с феерическим успехом стали проходить в Америке и в Европе гастроли великих русских музыкантов-исполнителей скрипача Давида Ойстраха и пианиста Эмиля Гилельса, потом к ним присоединился виолончелист — Вячеслав Растропович, через несколько лет по личному разрешению Хрущева и вопреки заключению КГБ стал «выездным» Святослав Рихтер. Уже описанные гастроли Васильева и Максимовой шли на фоне феерических спектаклей Большого Театра с Галиной Улановой в «Лебедином озере», в «Ромео и Джульетте», а потом и Майи Плисецкой (тоже по разрешению Хрущева) и Александром Годуновым, и Кировского (Мариинского) театра с фантастическими танцовщиками Рудольфом Нуриевым, Михаилом Барышниковым. Симфонии и концерты Шостаковича во всем мире стали почти столь же исполняемыми, как концерты Брамса и симфонии Малера, опять вспомнили умершего в 1953 году Сергея Прокофьева — русская музыка, новое поколение русского балета, как и в начале ХХ века завоевали весь мир. Но что особенно замечательно параллельно с этим европейская, американская музыкальная культура возвращались или заново завоевывали Россию. Это было время поразительного небывалого в истории русской культуры художественного обмена, единства со всем лучшим в европейском мире.
22 апреля 1956 года в Москве состоялось в первые выступление Лондонского симфонического оркестра, в сентябре — Бостонского симфонического оркестра под управлением Чарльза Мюнша, в мае 1956 года в СССР гастролирует Исаак Стерн, в 1958 год двенадцать концертов дал Филадельфийский симфонический оркестр под руководством Юджина Орманди, потом были оркестры ВВС, Сан-Францисский, Лос-Анджелесский. Крупнейшие дирижеры Джордж Сэлл, Эрих Лайнсдорф, Леонард Бернстайн приезжали в Москву. Приходилось посылать (под надзором, конечно, и отбирая из оркестров тех, кто не останется на Западе) и советские оркестры заграницу — Большого театра и другие. А в марте 1958 года проводится в Москве первый конкурс музыкантов-исполнителей имени Чайковского. Почти демонстративно, как политическая победа победителем среди пианистов становится американец Ван Клиберн.
В январе 1956 года в исполнении труппы «Эвери Мэн» в Большом театре прозвучала опера Гершвина «Порги и Бесс», а в 1960 году – «My fair lady», приехал на гастроли «New York City Ballet» с Джорджем Баланчиным и Джером Роббинсоном. До этого в июне 1958 года парижская «Гранд-опера» привозит в Москву одноактные балеты.
Совершенно ослепительным было созвездие исполнителей, приезжавших тогда в Москву: скрипачи Исаак Стерн, Иегуди Менухин, Генрик Шеринг, виолончелисты Гаспар Кассадо, Пьер Фурнье, Морис Маррешаль, пианисты Артуро Микельанджели, Артур Рубинштейн, а в 1962 году с целым циклом концертов приехал Игорь Стравинский. В том же году гастролирует с оркестром знаменитый Бенни Гудмен.
На таком блистательном фоне 1958 года начал проводиться в Москве Международный конкурс имени Чайковского, который сразу же стал очень заметным в мире музыки и создал бесспорные имена многим молодым советским и зарубежным исполнителям, русские молодые музыканты начали участвовать в крупных зарубежных конкурсах. Именно эта возродившаяся в годы правления Хрущева мировая музыкальная культура сделала возможным, конечно, чуть позже, но только благодаря такой благодатной почве рождение целой плеяды великих русских композиторов: Альфреда Шнитке, Софии Губайдуллиной, Эдисона Денисова, Вячеслава Артемова. Несмотря на вскоре наступивший жесткий контроль, в особенности за художественным языком того, что писали советские композиторы, почти полную невозможность в течение долгих лет (впрочем, я помню, как Александру Сацу в его личный исполнительский концерт в Институте имени Гнесиных удалось вставить вещи Артемова) представить слушателям свои произведения, то есть при всей этой затянутости во времени сперва их известности, а потом и славы, сама возможность появление и развития этих украсивших русскую и мировую культуру композиторов, конечно, связана с эпохой Хрущева.
Более или менее сходным по значению, но более трагичным по обстоятельствам все происходило и в советском кино. На смену нескольким «взятым в качестве трофеев» старым зарубежным фильмам таким как английская «Леди Гамильтон» и четырем сериям американских «Приключений Тарзана» постепенно в Советский Союз стала проникать европейское современное кино. 15 октября 1956 года с оглушительным успехом начался фестиваль итальянского кино. Потом прошла неделя кино французского, все большее влияние оказывало возродившееся польское кино с «Пеплом и алмазом» Анджея Вайды и фильмами Кавалеровича чехословацкая «новая волна». Все новые и новые европейские фильмы понемногу и осторожно стали появляться на советских экранах, но здесь начал работать и другой подспудный фактор. С большим успехом (особенно в молодежной среде) шел единственный не самый лучший фильм французской «новой волны» бельгийский «Чайки умирают в гавани».
Множество зарубежных фильмов, которые не покупались Госкино и не показывались широкому зрителю привозились в Советский Союз в одной не рассчитанной на прокат копии и показывались на «просмотрах» в Доме кино, студентам ВГИК’а и даже в появившихся подобных «домах кино» Киева, Ленинграда, Новосибирска, Риги. Шедевры итальянского «неореализма», десятки фильмов французской «новой волны» – Трюффо, Годара и даже сюрреалиста Алена Рене стали почти привычными обсуждаемыми в киножурналах Советского Союза. Таким образом, возможно, без целеустремленного желания властей появлялось новое поколение и кинематографистов и зрителей, для которых знаменитые «Кубанские казаки» и «Падение Берлина» были чем-то глубоко архаичным и даже неприличным по своей художественной форме, а не только из-за своего просталинского содержания. К этому времени, с 1959 года, каждые два года начали проводиться московские кинофестивали и многие годы (до ареста Сергея Параджанова в 1973 году, который привел к полному бойкоту всем серьезным мировым киносообществом этого фестиваля) оставался, конечно, не равным Каннскому или Венецианскому, но и по представленным фильмам и по составу жюри одним из ведущих в мире.
Тем не менее два первых бесспорных прорыва в европейскую культуру сделали кинорежиссеры, у которых за плечами был опыт довольно обыкновенных советских фильмов. Одним из них был Григорий Чухрай, который в 1959 году своим пронзительным фильмом о юном солдате, которому удалось среди войны добраться на пять минут на побывку к матери и которого сразу же ждет неизбежная гибель, удалось характером и качеством съемок, поразительному подбору и игре актеров, как это ни странно подвести итог кинематографической советской культуры. Конечно, это был и результат влияния всего итальянского неореализма и даже в какой-то части французской «новой волны». И этот фильм Чухрая и следующий (в 1961 году) «Чистое небо» был на «ура» встречен советской критикой, очень доброжелательно — на Западе, хотя и не имел такого поразительного успеха в мире. К несчастью, почти полностью замалчивался в Советском Союзе, вероятно, лучший фильм этих лет, снятый в 1958 году Михаилом Калатозовым «Летят журавли». К блестящей работе режиссера прибавились новаторские технические открытия великого оператора Сергея Урусевского и тончайшая игра первоклассных, по сути дела открытых режиссером, молодых и сразу же ставших всемирно известными актеров — Татьяны Самойловой и Алексея Баталова. Это был единственный фильм за всю историю советского и российского кино, удостоенный высшей награды Каннского кинофестиваля – «Золотой пальмовой ветви». К несчастью, это был и единственный хоть как-то шедший в Советском Союзе фильм Михаила Калатозова. Его следующий (1959 год) трагический фильм о группе геологов, погибающих в тайге (тоже с Татьяной Самойловой), даже не был официально обруган, а был просто не выпущен в свет («положен на полку») и зрители смогли его увидеть только в годы перестройки. В эти же годы снял очаровательный фильм «Я шагаю по Москве» Георгий Данелия (по сценарию Геннадия Шпаликова). Еще до ХХ съезда начал снимать свой первый «человеческий» фильм «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев, вполне разумно сказавший в одном из интервью, что оттепель началась до ХХ съезда, судьба следующего его фильма «Мне двадцать лет» («Застава Ильича» в первом варианте) была более была более сложной, но после неизбежных купюр и он был показан, хотя и не первым экраном, то есть напечатан в небольшом числе копий. И все же, несмотря на все государственные препоны, можно сказать без всякого преувеличения, что именно эти годы были временем расцвета советского кино, а Москва ненадолго, как и в области музыки, стала одной из культурных столиц мира.
Совершенным каким-то чудом не имевшим никаких аналогов и даже прямых связей с мировым кино стали «Тени забытых предков» Сергея Параджанова. Внезапно из нескольких поодиночке мало что обещавших искр фантастического эстетизма режиссера, неиссякаемой творческой энергии оператора, Юрия Ильенко, прекрасной повести украинского классика Михайла Коцюбинского, и дивной красоты галицийского быта (его так трудно назвать этнографией), наконец, от блестяще подобранных и замечательно сыгравших свои непривычные роли актеров Ивана Миколайчука и Ларисы Кадочниковой вспыхнуло какое-то непередаваемое, никем не жданное пламя.
Фильм хотя и получил за рубежом массу восторженных отзывов и три десятка высоких наград на буквально всех кинофорумах мира, был тем не менее очень холодно принят советским руководством. Одни в нем видели потакание украинскому национализму, другие — формалистические изыски, разрушающие основы и заветы советского реалистического кино. На экранах в Советском Союзе фильм почти не показывался, шел, как и полулегально привезенные в одном экземпляре зарубежные фильмы, в «Домах творчества» и на полузакрытых просмотрах.
Замечательно, что Параджанов в отличие от своих последователей второго такого фильма снимать не стал, «романтическое кино», основоположником которого стал Параджанов, развивалось и продолжалось другими режиссерами. Его следующий, совсем уж нелегальный по советским меркам фильм «Киевские фрески» стал прорывом к совершенно новому в искусстве ХХ века кинематографу. И в этом фильме (1966 год) и в последующих Параджанов убрал из кино движение, его статичные мизансцены, собраны в очень сложной внутренней последовательности кадр за кадром при поразительном, свойственной ему одному ощущению формы и цвета. Сюрреалистическое сочетание в бесконечном и иногда, как кажется, безвкусном единении любого предмета, фактура которого ощутима так, как будто зритель сам его только что сделал — производили и производят неизгладимое впечатление. Этот совсем небольшой фильм-открытие, запрещенный худсоветом киностудии Довженко уже после проб актеров, был все-таки снят, завершен и уцелел в одной копии только благодаря тому, что его оператор Александр Антипенко в том году заканчивал учиться во ВГИК’е и отдал жалкие, выделенные ему институтом на дипломную работу, гроши на завершение фильма Параджанова.
Но в новом фильме, который сперва вполне законно Параджанову удалось снять через два года на Тбилисской киностудии, «Цвет граната» о средневековом армянском поэте Саяте Нова, эта найденная Параджановым форма в сочетании теперь уже с официальными профессиональными возможностями киностудии и трагическим средневековым сюжетом (среди художников были великие — Мартирос Сарьян и Минас Аветисян) создала такое ослепительное по своей красоте сияние, которого не знало (и не может повторить до сих пор) искусство кинематографа. Но и этот фантастический по красоте фильм был забракован Госкино уже в готовом виде, для его спасения и выхода на экран кинорежиссер Сергей Юткевич взялся вторично, первый раз это вынужден был сделать сам Параджанов, изменив и название фильма «Саят-Нова» на «Цвет граната», его перемонтировать и в этом виде (с изменившимся цветом субтитров, который снимал цветовую нагрузку фильма) он был выпущен в самом минимальном количестве копий только в 1971 году. Пленка Параджанова, к счастью, сохранилась в Госфильмофонте и этот один из величайших фильмов мирового кинематографа был показан по телевизору в неизувеченном состоянии только в 2014 году. Вскоре режиссеру всемирно известному получившему несколько десятков призов на всех фестивалях мира, пришлось встретиться с еще более отвратительными проблемами. В 1973 году Параджанов был арестован по обвинению в гомосексуализме (хотели сперва обвинить в спекуляции в особо крупных размерах, но все его имущество было оценено в 70 рублей). А на самом деле, по-видимому, из-за симпатии к нему украинского первого секретаря ЦК Петра Шелеста, смененного теперь русофобом Владимиром Щербицким, для которого был неприемлем Параджанов, ставший одним из символов украинского культурного возрождения. К счастью, это еще не был конец великого русского кинорежиссера, но его дальнейшие злоключения и несчастья уже не имеют отношения к эпохе Хрущева.
Чуть более благополучно, но тоже совсем нелегко складывался путь второго великого русского кинорежиссера — Андрея Тарковского. Уже его первый фильм (1962 год) «Иваново детство» хотя и вышел на экраны, но с большим трудом и в малом числе копий. Проблемы с советскими властями возникли у Тарковского по той же причине, что и у Калатозова в «Летят журавли» – у них в Отечественной войне совершенно не было никакой желанной идеологическому отделу ЦК КПСС победной героики. Не было даже хоть как-то приемлемого гуманистического сочувствия к советскому человеку. Было разорванное, искалеченное сознание ребенка, попавшего на фронт, озлобившегося волчонка, потерявшего детство и идущего с этим ужасным опытом в какую-то новую послевоенную взрослую жизнь. Уже этот первый фильм Тарковского был удостоен премии «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. Злоключения последующих фильмов искалеченного «Андрея Рублева», «Соляриса», «Зеркала» столько раз описаны, что нет смысла все повторять. Тарковскому не грозила, к счастью, тюрьма, как Параджанову, но и работать в СССР он не мог, второй великий русский режиссер уехал в эмиграцию. Расцвет хрущевской оттепели для музыкальной культуры кончился бегством за границу многих первоклассных музыкантов. Начинавшийся расцвет кино — арестом Параджанова и бегством Тарковского.
Все, что было связано с дурной или даже очень серьезной политикой в культурном наследстве эпохи Хрущева уже умерло или полузабыто. Оглушительно популярные пьесы Розова и Шатрова, вся комсомольская и революционная романтика даже, если это Булат Окуджава или Юрий Трифонов и даже самые значительные по своему политическому значению в русской, а, вероятно, и в мировой литературе – «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг Гулаг» Солженицына вызывают интерес уже, в основном, у историков литературы и общественной жизни. Восстановившая достойный уровень русской литературы деревенская проза, кроме нескольких бесспорных шедевров вроде «Живого» Бориса Можаева, «Рычагов» Александра Яшина и «Плотницких рассказов» Василия Белова вызывают интерес не больший, чем родственные им рассказы Глеба Успенского. Тоже произошло и с поэзией и с театром.
Осталось в русской и мировой культуре лишь то, что появившись в годы «оттепели» или прямо обязанное своим рождением этой эпохе, с злободневностью никак не связано не было, современного шумного успеха не имело, но остается гордостью русской культуры, ее вкладом в человеческую цивилизацию и бесспорной заслугой Никиты Хрущева, создавшего среду, сам воздух обновления и хоть минимальной свободы, в которых и могли появиться гениальные «Колымские рассказы» Шаламова, фильмы Сергея Параджанова и Андрея Тарковского, концерт для виолончели с оркестром Альфреда Шнитке, музыка Софии Губайдуллиной и, право, это совсем не маленький список великих имен вошедших в человеческую цивилизацию.
Но мы увлеклись разговорами о русской культуре, забежали слишком далеко вперед, уже сказали о Солженицыне и «Новом мире» событиях по меньшей мере 1962 года, а в этом переломном году происходило так много другого важного, и о нем нужно будет писать отдельно.
После всего сказанного легко понять как двигались реформы Хрущева. В этом кратком изложении особенно обидно, что за всю историю России не было у нее ни государя, ни советского лидера, который был бы так озабочен не просто приданием стране европейского облика, но буквально ежедневно, в постоянных и долгих выступлениях в Советском Союзе и бесконечных по нему поездках, так же как в частых в последние годы визитах в зарубежные страны главной его заботой было как накормить и улучшить жизнь советского народа, чему еще полезному можно научиться (и обязательно тут же поскорее внедрить) в бескрайних наших просторах.
Чудовищный голод в результате коллективизации («голодомор», как называют его на Украине прошел мимо внимания Хрущева — он был в Москве поглощен борьбой с оппозицией, о голоде ничего не сообщали, а интересоваться тем, что тебя не касается уже и в те времена не полагалось. Но послевоенный голод тоже вызвавший массовые случаи людоедства и гибель, ориентировочно, шести-семи миллионов человек происходил, когда Хрущев руководил Украиной. Не очень понятно как он защищал своих друзей от расстрелов в годы ежовщины, да и защищал ли вообще, но то, что пытаясь спасти хоть часть голодающих в сороковые годы от гибели Хрущев писал отчаянные письма Сталину, пытался получить хоть какие-то дополнительные поставки зерна на Украину — известно совершенно точно. При этом он понимал, что вызывает очень опасное для себя лично неудовольствие Сталина (который язвительно стал называть его «народником»), действительно был сменен на посту первого секретаря ЦК КПУ Кагановичем, но хотя оставлен председателем Совета министров Украины, что уже было очень зловещим признаком, хоть какой-то хлеб все же сумел получить, а через год прошла и опала Сталина. С тех пор можно сказать, что как это ни странно звучит для совершенно античеловеческой советской власти и ее вождя, забота о благосостоянии народа была основной в жизни Хрущева.
Пятиэтажки для сравнительно простых людей он начал строить еще при Сталине, сразу же после того как стал первым секретарем Московского горкома и обкома партии. Это были дома еще чуть более основательные (к примеру, в Измайлово), а следовательно и более дорогие и их было существенно меньше чем последующих «хрущеб», но и в них уже переселяли людей из коммунальных квартир в мокрых подвалах и двухэтажных деревянных бараков, которыми была застроено вся Москва в 30-е годы. Уже в ноябре 1953 года Хрущев говорит «Москва задыхается, нет жилья» и начинает просчитывать, какой дом обошелся дешевле и построен быстрее. Но далеко не сразу он начал компанию за «борьбу с архитектурными излишествами», а по сути дела за массовое строительство самого дешевого, но нового жилья, за создание городов-спутников по всей стране. Он заговорил о людях живущих в подвалах, молодоженах покончивших с собой из-за того, что жить было негде29, о необходимости «скорее залечить зияющие раны потребности в жилье». Это были не просто декларации, но сперва разработанные проекты домов из сборного железобетона и сразу же — десятки заводов, выстроенные по всей стране, производящие на конвейере панели для домов, заполнивших уже через несколько лет пригороды всех крупных советских городов, а вскоре и многих небольших. Города, конечно, эти микрорайоны, несмотря на высаженные деревья и газоны, конечно, обезобразили, «встроенная мебель» редко была удобной, чаще — просто уродливой, оскорбленные новой программой архитекторы предлагали дополнить оборудование малометражной квартиры занимающим особенно много места ночным горшком с ручкой внутри. Тем не менее к 1965 году общая жилая площадь во всем Советском Союзе была удвоена и это великое дело Хрущева: десятки миллионов людей смогли жить в очень недорогих, но все же сухих и светлых квартирах. А Хрущев до самого лета 1964 года все продолжал сравнивать новые квартиры рабочих во Франции, в Скандинавских странах и все обдумывал, даже оправдывался и говорил часами о том, что и во Франции квартиры рабочих с невысокими потолками, а в Финляндии лучше сушат дерево для недорогой мебели, а во многих странах применяют сдвоенные рамы, что гораздо экономнее, чем по две рамы в окнах, какие по-прежнему ставят в русских домах. Три новых Москвы и все не хватает — говорил он в 1964 году. Все это искренне интересовало Хрущева, он старался вникнуть в каждую деталь, просчитать ее стоимость, возможную выгоду и то число новых квартир для нищих советских людей, которое может быть построено за счет этой экономии и рационализации. И, конечно, очень удивился, искренне обижался, что далеко не всем его слушателям, его сотрудникам были интересны эти расчеты. И все же жилищное строительство, его бесспорные успехи в годы правления Хрущева были самым очевидным его достижением (около третьи населения Советского Союза за годы его правления смогли получить новые комнаты или квартиры). Гораздо хуже было в других областях хозяйства.
Мечтой Хрущева был разумный сбалансированный бюджет, честные хозяйственные проекты на пятилетку, потом и на семилетку. При Сталине плодились фантастические планы роста во всех областях советского хозяйства, они необычайно широко рекламировались, как бесспорные достижения советской власти, потом, по мере того, как выяснялась их нереализуемость, тайком корректировались и, наконец, к завершению пятилетки их сокращение доводилось до такого состояния, что можно было столь же громогласно объявить о перевыполнение планов на множество процентов. Реальные производственные показатели были строго засекречены. Уже пятилетка завершавшаяся в 1955 году была в сравнении с начальными планами не выполнена почти по всем показателям, но Хрущев отказался перед подведением итогов корректировать планы и было честно объявлено, хотя, конечно, без большой помпы, что пятилетний план не выполнен.
Новый пятилетний план Хрущев хотел видеть не рекламным, не невыполнимым, но призывающим, как при Сталине, а вполне честным, реалистичным, хотя, конечно, и направленным на ускоренный рост промышленности. Замена большинства министерств совнархозами, то есть вместо одной вертикали управления, как с гордостью и надеждой говорил Хрущев, теперь их будет сто, казалось, что в каждой вертикали будет больше здравого смысла и заинтересованности в результатах. К тому же в декабре 1956 года на пленуме ЦК Хрущев открыто (и с публикацией в «Правде» против чего были почти все члены Президиума) впервые признал провал планов 1956 года и что еще хуже — выяснилось невозможность разработать реальный сбалансированный план пятилетки 1956-1960 годов. Надежда на то, что совнархозы и республики будут предоставлять более реалистичные планы и отчеты явно не оправдались. Вместо завышенных и несбалансированных ни с чем планов министерств и ведомств появились такие же планы совнархозов. Больше того, оказалось, что каждый совнархоз думает в первую очередь о собственных интересах и вполне игнорирует соседей. Характерным стало название статьи в «Известиях» – «Вы не из нашего совнархоза». Стало ясным к тому же, что наращивая вслед за Сталиным выплавку чугуна и стали Советский Союз не догоняет западные страны, а все больше отстает от них по разным причинам (отсталость технологий и другим), но, главное, в том, что весь мир переходит на замену металлов полимерами, а в СССР о химической промышленности и технологиях до этого даже не думали.
К тому же оказалось, что партийный контроль за производством сокращается — теперь уже не только руководители сохраненного Средмаш и основных военных производств, но и многие другие хозяйственные руководители почувствовали себя гораздо более независимыми от областного партийного начальства. А Хрущев и в дальнейшем будет наращивать эту независимость: укрупняя совнархозы, когда, к примеру, на три республики Средней Азии будет один совнархоз, конечно, почти независимый от местного начальства.
К 1961-62 году у Хрущева созреет план разделения обкомов на сельскохозяйственные и промышленные и практическое уничтожение райкомов партий при таком же разделении и превращении их в комитеты в производственных управлениях, причем постоянно подчеркивалась не руководящая, а лишь идеологическая роль этих парткомов.
И все эти постоянные судорожные перемены в управлении советским хозяйством на практике ничего не давали. Хозяйственные руководители как и партийные совершенно не были заинтересованы ни в качестве продукции, ни во внедрении новых технологий. Госплан был не в состоянии сбалансировать и распределить по стране, где к тому же оказался ослабленным уже не только страх перед НКВД, но и партийный контроль, миллионы видов необходимой продукции, годовые планы по росту производительности труда, по доходам населения не выполнялись.
На самом деле были правы критиковавшие экономические преобразования Хрущева члены «антипартийной группы» – Маленков, Сабуров, Первухин. Не только в общественно политической области, но и в экономике Хрущев делал ту же ошибку, от которой предостерегал его Черчилль — пытался перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Если Хрущев сохранял плановую систему, государственную собственность на все виды производства, то ему надо было сохранять и сталинскую систему управления и контроля за всей хозяйственной жизнью в стране. Преимущества западной экономической системы, которые он постоянно отмечал, очень болезненно реагировал на все растущее советское отставание, были основаны на тонко отрегулированном, в разных странах несколько по разному, рыночном способе ведения хозяйства, экономической открытости и взаимодополняемости видов производства западных стран, что в конечном итоге предусматривало совсем другую демократическую структуру государственного управления. До 1962-64 года Хрущев не был к этому готов. Не только, как политический лидер, руководитель авторитарного централизованного управляемого государства и гигантского аппарата для него созданного, но и на уровне собственного понимания несопоставимости важнейших для него целей — в первую очередь роста благосостояния народа и изначальных возможностей советской структуры политического и хозяйственного управления, созданных Сталиным для совершенно других целей.
Основным препятствием и невозможности реального планирования и существенного повышения жизненного уровня советских граждан были совершенно фантастические не соответствующие никаким реальностям, но выработанные при Сталине для ускоренной милитаризации страны, цены буквально на все виды сырья, все виды работ, а соответственно и на все без исключения виды товарной продукции. Еще в начале 30-х годов академик Минц направил Сталину записку, которая и стала руководством к действиям на ближайшие десятилетия. Основным источником финансирования ускоренной индустриализации Советского Союза по предложению Минца, должно было стать целенаправленное понижение жизненного уровня населения. После чего в стране стали снижаться практически все виды заработной платы. Как в деревнях так и в городах резко возросли цены на все виды продаваемой бытовой и необходимой деревне промышленной продукции и услуг, было прекращено жилищное и культурно-бытовое строительство и все это при неуклонном занижении внутренних цен на все виды сырья и продукции тяжелой промышленности, предназначенной для армии и дальнейшего экономического имперского развития Советского Союза.
Основными результатами этой замечательной социалистической политики стал чудовищный рост числа заключенных, как наиболее дешевого вида рабочей силы. И это несмотря на то, что в некоторых лагерях в первую же зиму на Колыме погибали (от голода, холода, были расстреляны) до 80% первоначального списка, а голод в деревнях в начале 30-х годов, середине сороковых приводил к массовому людоедству. Царила неописуемая нищета на грани голода и у городского населения. В официальной культуре даже была выработана особая советская пропаганда всеобщей нищеты.
К тому же в результате многолетнего, чаще всего хаотического, диктуемого ежеминутными соображениями завышения одних цен, занижения — других, к концу пятидесятых годов, когда Хрущев попытался хоть сколько-то составить реальные планы, оказалось, что уже невозможно понять, что в действительности чего стоит. Чего стоит электричество и газ, металл, ботинки и новые самолеты. 16 июля 1960 года была создана комиссия «по исчислению стоимости в социалистическом хозяйстве» под руководством академика Василия Немчинова, но вскоре выяснилось, что она противостоит всей советской хозяйственно и плановой системе, разрушить ее Хрущев был не в состоянии и вернулся к сталинскому лозунговому планированию («нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме») и судорожным попыткам хоть еще немного улучшить жизнь советских людей при системе, которая была сильнее его.
К сожалению, на этом этапе своего развития Хрущев решил, что дела в экономике можно поправить, если совершенно уничтожить коррупцию в государственном аппарате — естественно развившуюся, как только пропал сталинский страх, воровство и мошенничество простых советских людей. Сергей Хрущев в своих книгах об отце приписывает многочисленные проявления государственной жестокости злому гению Фрола Козлова, который став вторым человеком в стране пользовался якобы доверчивостью и частыми поездками Хрущева для восстановления многих сталинских законов, интриг в ЦК и расстрелу в Новочеркасске. Между тем очевидно, что за неимением других мер сам Хрущев понадеялся (руками Козлова) добиться жесткими мерами успехов в советском хозяйстве. В качестве примера для партийных руководителей была исключена из членов Президиума ЦК КПСС и даже не выбрана в простые члены ЦК Екатерина Фурцева, построившая себе дачу из средств, выделенных Большому театру. Официально это никогда не было объявлено, но все кому надо было, конечно, знали. Фурцева в отчаянии вскрыла себе вены, Хрущев, который многим ей был обязан и просто хорошо к ней относился, пожалел ее и сохранил за Фурцевой пост министра культуры, на котором она сделала еще много доброго, но коррупция в стране росла, становясь лишь более изощренной, хотя не она была в те годы причиной неудач в экономической политике.
Более шумной и, к несчастью, гораздо более кровавой была история с «валютчиками» Владиславом Файбишенко и Яном Рокотовым.
В многочисленных статьях накопленные ими золото, валюта и сотни тысяч рублей объяснялись незаконными обменными операциями рублей на сильно заниженные по официальному курсу доллары, а за компанию — спекуляцией современной одеждой, привозимой иностранцами и недоступной советским гражданам. На самом деле все было гораздо серьезнее — это был тяжелый моральный удар коммунистическому самолюбию Хрущева и всей советской экономической системы. Файбишенко и Рокотов в основной своей роли были теми, кого через несколько лет, наконец осмелились называть «цеховиками». Их порученцы скупали у пастухов овечью шерсть, в дополнительное (высоко оплачиваемое для рабочих) время обрабатывали ее на государственных фабриках и шили самые модные по тем временам изделия, а потом легко и быстро нелегально продавали их в государственных же магазинах. Преступное по советским законам частное предпринимательство, в котором принимали участие сотни в том числе и вполне официальных людей, долгие годы оказывалось нераскрытым, а, главное, без труда побеждало советскую экономику.
Бешенство и унижение Хрущева были так велики, что его реакция по своему абсолютному беззаконию и жестокости вполне сравнялась с сталинскими. Сперва, узнав, что по Уголовному кодексу валютные операции караются восемью годами заключения, он потребовал ужесточить закон и судить уже арестованных валютчиков по закону, которого не было в момент совершения преступления. Это само по себе было отвратительно и с 1953 года совершенно беспрецедентно. Но за несколько дней до суда Хрущеву на глаза попалась статья, где речь шла об усилении ответственности по статье о валютных операциях и Хрущева обуяла новая волна ярости по поводу того, что Файбишенко и Рокотов останутся живы, будучи сравнительно молодыми людьми еще и выйдут из лагерей на свободу и он со скандалом и криком потребовал от слабо сопротивлявшегося Генерального прокурора СССР Руденко вновь пересмотреть статью Уголовного кодекса, чтобы этих первых известных советских предпринимателей обязательно расстрелять. Что и было сделано в лучших традициях тоталитарной власти, причем вместе с ними был расстрелян Яковлев — на самом деле информатор МВД, который и был арестован только для вида, чтобы не выдавать его сотрудничество с милицией. Больше того, поскольку все это сопровождалось очень шумной и крикливой компанией в прессе аресты «валютчиков», зачастую вполне мелких и ничтожных, начались по всей стране и всюду, как и в Москве сопровождались расстрелами молодых людей.
Демонстрация поражения Хрущева в области экономики оказалась в результате еще более кровавой, чем до этого политическое поражение в Венгрии, а после этого — социальное в Новочеркасске.
Расстрелы в 1961 году дополнялись почти прямым возвращением к сталинскому законодательству. Один за другим появляются законы:
– об высылке на пять лет за тунеядство;
– о расстреле за хищение социалистической собственности;
– о тюремном заключении за нарушение правил прописки;
– об ответственности за небрежное хранение сельскохозяйственной техники;
– об организации продажи леса из колхозных лесов;
– о нормах содержания скота рабочими государственных сельскохозяйственных предприятий, а также гражданами, проживающими на территории этих предприятий;
– о нормах приусадебных и огородных земельных участков работников государственных сельскохозяйственных предприятий и других граждан, проживающих на территории этих предприятий;
– о запрещении содержания лошадей и волов в личной собственности граждан;
– о мерах улучшения комиссионной торговли в РСФСР;
– о мерах улучшения комиссионной и колхозной торговли сельскохозяйственными продуктами;
– об упорядочивании продажи продуктов сельского хозяйства, строительных и кровельных материалов частным лицам;
– о мерах усиления борьбы с хищениями социалистической собственности и злоупотреблениями в торговле;
– о единовременном учете трудоспособного населения, уклоняющегося от общественного труда и живущего за счет нетрудовых доходов;
– об усилении ответственности за посягательство на жизнь и здоровье работников милиции и народных дружинников;
– об усилении уголовной ответственности за взяточничество;
– о применении мер воздействия за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работников милиции или народных дружинников.
Апофеозом стало возвращение в 1963 году сталинского закона (отмененного Маленковым и Берия в 1953 году) об усилении уголовной ответственности за самовольную, без надобности, остановку поезда.
Кстати говоря, в дополнение к уже высказанному соображению, что все эти законы были не результатом неконтролируемых действий Козлова, а соответствовали взглядам самого Хрущева, можно вспомнить записку Хрущева Сталину в конце 1946 года о выселении злостных и неисправимых преступников и паразитических элементов, результатом которой стал указ Президиума Верховного Совета о выселении в отдаленные районы СССР, по которому и было выселено 33 000 человек. Так что опыт «борьбы с тунеядцами» у Хрущева был давний.
Как легко понять все эти аресты и расстрелы к улучшению экономического положения в стране не приводили, больше того, число «цеховиков» в особенности в южных регионах страны неуклонно росло. Вскоре они в большинстве случаев без труда научились откупаться как от органов милиции, так и от зорко бдящих партийных начальников и коррупция в стране стала приобретать серьезные размеры, несмотря на то, что число сотрудников Министерства охраны общественного порядка впервые было увеличено сразу на 20 000 человек.
Между тем Хрущев выкраивал где мог копейки из государственного бюджета, чтобы хоть немного улучшить жизнь советских граждан, для него, действительно, это была главная цель в жизни.
Уже в 1955 году был сокращен на два часа рабочий день в субботу, в 1960 году благодаря сокращению рабочей недели еще на четыре часа появились два выходные дня — суббота и воскресенье, для подростков — не более, чем семичасовой рабочий день. Поскольку практически у всех горожан в стране были стабильные оклады на заработках это не отразилось. Развивается по всей стране сеть ясель, детских садов и интернатов для детей. Оплачиваемый отпуск по беременности был увеличен с 77 дней до 112-ти.
На военных заводах при сокращении военного производства был освоен выпуск велосипедов и стиральных машин, холодильников, пылесосов, электрополотеров — большей частью небывалых вещей в жизни советских людей.
Одновременно были повышены все рабочие пенсии, отменена плата за обучение в высших учебных заведениях и старших классах школ, повышена минимальная зарплата, отменены налоги с холостяков и повышена планка необлагаемого налогами дохода, главное же отменены не только законы о четырехмесячном заключении за опоздание на работу и шестимесячном — за прогул, но и закон от 19 октября 1940 года о крепостном праве в промышленности, по которому инженер или рабочий не только не могли по собственному желанию переменить место работы, но в зависимости от потребностей ведомств могли быть в обязательном порядке переселены в любой другой город без предоставления там даже минимальной жилой площади.
И хотя вполне понимаемая Хрущевым нищета советских людей была так велика, что в 1962 году черный хлеб в столовых стали подавать бесплатно, но массовое бесплатное жилищное строительство (впрочем, появились и кооперативные дома), множество мер повышения жизненного уровня в стране, из которых я перечислил далеко не все, привели к тому, что за годы правления Хрущева детская смертность сократилась до 45 новорожденных из тысячи (в 1940 году — 184), средняя продолжительность жизни достигла 69 лет (47 лет в 1938). Это были самые благоприятные годы в истории России.
И 1961 и 1962 годы — время самых серьезных и самых противоречивых решений Хрущева. Он в явной панике. О размещении ракет на Кубе и их вывозе мы упоминали, перечислим другие важнейшие события этого времени.
Формально наиболее заметным в то время был XXII съезд КПСС с его девизом взятом из речи Хрущева «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Установлен был и срок — 1980 год. Трудно даже предположить, что Хрущев по популярной тогда байке об обещаниях Ходжа Насреддина научить через пять лет разговаривать осла (за это время или я умру, или бай на тот свет отправится, либо осел сдохнет), полагал, что к этому времени что-то серьезное случиться либо с ним, либо со страной. Он давал обещания, выдвигал лозунги почти с той же энергией блефа, с какой вел международную политику СССР в пятидесятые годы и с которой планировались пятилетки при Сталине. Но становится очевидным, что время и обстоятельства уже совсем не те, смеяться над Хрущевым уже никто не боится. Делегаты послушно голосуют за все предложения Хрущева, даже за вынос тела Сталина из мавзолея после двухчасового теперь уже открытого, очень эмоционального рассказа Хрущева о преступлениях вождя (зал на это уже не реагирует) и смехотворного сообщения старой большевички (с 1903 года) о том, что Ленин во сне попросил ее это сделать. Уже ни Ленин, ни Сталин, ни даже Хрущев делегатов XXII съезда почти не интересуют. Историки и мемуаристы полагают, что антисталинские откровения Хрущева были случайными, спонтанными, что его по обыкновению «понесло». Однако, судя и по тому, что Хрущев остро переживал явное поражение своих хозяйственных реформ (а именно это было для него главным) и по тому, какие меры им были предприняты и планировались в ближайшем будущем, его спонтанность была очередным спектаклем, особенно необходимым, поскольку согласовать такое выступление с Президиумом ЦК он, вероятно, уже не мог. Позиции Хрущева явно слабеют, но и он тоже не так прост, понимает соотношение сил и делает ставку на двух сильных и жестких людей: Фрола Козлова, о чем мы уже писали, и Александра Шелепина. Первому Хрущев позволяет то, что Сергей Хрущев называет интригой «ближнего боярина» – удаление из Президиума ЦК преданных сторонников Хрущева — Фурцевой, Мухитдинова, Аристова и Игнатова.
Удаление группы членов Президиума ЦК (и Игнатов стал злейшим врагом Хрущева и через два года одним из основных пропагандистов среди членов ЦК необходимости его свержения) состоялось по очень важной для Хрущева причине — реализации включенного в Устав КПСС положения о том, что все избираемые органы власти на каждых выборах должны обновляться на одну треть. Еще 14 декабря 1959 года на расширенном заседании Президиума ЦК Хрущев впервые заговорил об этом:
- В программе надо было бы подумать и насчет демократизации нашего общественного строя. Без этого нельзя. Взять к примеру наше руководство — президиум. Мы не ограничены ни властью, ни временем. Правильно ли это? Может собраться артель, люди могут спаяться и спиться. При Сталине это было, сидел же разбойник Багиров. Сталин о нем говорил, что мусульмане не держали бы его и недели, убили бы, если бы его не поддерживали, а он там сидел двадцать лет…
– Я беру президиум ЦК: нас выбирают, но на следующем съезде одна треть выбывает обязательно.
Продолжение доклада Хрущева звучит совершенно «ревизионистски»:
- Буржуазные конституции, пожалуй, более демократично построены, чем наша: больше двух созывов президент не может быть. Если буржуа и капиталисты не боятся, что эти их устои будут подорваны, когда после двух сроков выбранный президент меняется, так почему мы должны бояться? Что же мы, не уверены в своей системе или меньше уверены, чем эти буржуа и капиталисты, помещики? Нас выбрали, и мы самые гениальные? А за нами люди совершенно незаслуженные? Поэтому я считал бы, что нужно так сделать, чтобы таким образом все время было обновление.
То есть ни один даже самый высокопоставленный функционер не может находиться на своем посту больше трех сроков. А куда дальше девать этих привыкших к беспрекословной и высшей власти людей, добившихся самых высших в стране льгот, но ничего кроме партийного администрирования и демагогии не умеющих людей — секретарей обкомов, сотрудников ЦК КПСС и даже секретарей ЦК. Хрущев уже проверил, что «перетасовка колод» партийных чиновников (без расстрелов, как при Сталине) никакой пользы не приносит, во множестве плодит недовольных, однако новые его предложения плодили непримиримых врагов.
Через два года (17 июня 1961 года) Хрущев уже не чувствует себя так уверенно. От любимой, очень важной для него идеи отказаться он не может, но понимает, что ЦК КПСС — это именно те люди, которые пока еще послушно голосуют за него, но могут проголосовать и против. Оппозиции достаточно влиятельной и организованной пока нет, но она, как понимает (чувствует) Хрущев может появиться. И потому чуть смягчает предложение:
- Я все-таки считаю, что следует оставить три срока для союзного руководства и два срока для всех остальных. Почему? Все-таки союзный уровень есть союзный. Во-вторых, когда мы запишем два срока, то нам не скажут этого, но это вызовет большое недовольство у руководителей социалистических стран. Надо с этим считаться. Поэтому не надо поддаваться настроению демократизма, надо все-таки реально представлять ответственность за наше дело. ЦК союзный и ЦК республиканские были на одном уровне. Сейчас надо отделить ЦК союзный, а те в другую категорию перенести. Это будет правильно. Там будет восемь лет.
Это положение Устава КПСС было дополнено еще и указанием о том, что на любых партийных перевыборах теперь должен быть не один кандидат на каждую должность, а несколько. Но ведь эта единственная кандидатура на каждую должность «спускалась» сверху. Как же теперь будет выстраиваться партийная вертикаль? И кто будет выдвигать второго или третьего кандидата? Вопрос об этом Хрущеву был задан и он не смог на него ответить. Депутаты XXII съезда по привычке проголосовали за все предложения, но задумались. Никто из них, кроме самых близких и казавшихся Хрущеву абсолютно надежными сотрудников ЦК КПСС и членов Президиума, к тому же не знал, что с 25 апреля 1962 года начала работать конституционная комиссия (председатель Хрущев, руководитель одной подкомиссии Ильичев), обещавшая еще больше неожиданностей.
Впрочем, Хрущев, уже убедившийся в тщетности своих усилий сделать управление страной более профессиональным и хоть в чем-то кроме своей власти заинтересованным решил подвернуть партийный аппарат небывалой встряске. Уже после XXII съезда в ноябре того же 1962 года Хрущев на Пленуме ЦК проводит, конечно, подготовленное еще к съезду решение. Во всех областях обкомы партии были разделены на два: промышленный и сельскохозяйственный, в надежде, что хоть с чем-то одним они справятся и будут руководить разумно. Районные комитеты партии вообще были упразднены: промышленные и сельскохозяйственные созданы не были — их заменили парткомы производственных сельскохозяйственных и промышленных управлений, которые к тому же не совпадали географически с прежними районами — Хрущев надеялся, что они будут ближе к земле, к производству и у них появится реальная забота и о крестьянских и о государственных интересах. Больше того парткомы созданных управлений (заменившие райкомы) теперь были не только разделены и расселены, но должны были лишь помогать в вопросах идеологии хозяйственным руководителям, а не управлять ими. Впрочем, все эти надежды Хрущева не оправдались — партийная и хозяйственная бюрократия осталась бюрократией, приносившей бесспорный вред, но теперь уже очень недовольной.
Предусмотрительный, как ему казалось, Хрущев создал новую по сути дела партийную спецслужбу для надзора за недовольным партаппаратом с другим сильным человеком недавним председателем КГБ — Александром Шелепиным. Под широковещательные разговоры о расширении возможностей народного контроля совершенно безвластные, занятые дисциплинарными нарушениями сотрудников, аппараты Комитета партийного контроля и Государственного контроля Хрущев объединяет и незаметно превращает в одну из самых могущественных структур в стране. Теперь у Комитета народного контроля в каждом областном и районном центре страны появилась очень небольшая группа представителей, но имевшая право проверить любые документы не только партийные, хозяйственные и исполкомов советов депутатов трудящихся, но и КГБ и милиции. А, главное, любой чиновник (кроме первого секретаря обкома) мог быть немедленно уволен по решению представителя КПК, да и секретарю обкома тоже приходилось не сладко — у агента Шелепина был прямой выход в Кремль, а у секретаря обкома — путь довольно сложный и долгий. К тому же, что было обидно, представитель КПК получал такой же оклад, как первый секретарь обкома, а Шелепина для более быстрого решения всех вопросов Хрущев не только оставил секретарем ЦК КПСС, но еще сделал и заместителем председателя Совета министров, то есть своим ближайшим сотрудником и в ЦК КПСС и в Совмине. Таким влиянием в стране, в обеих основных структурах управления не обладал больше никто. Именно тогда, а не в недолгий период руководства КГБ Шелепин и стал известным всей стране зловещим «железным Шуриком». В записке о мерах по улучшению государственного и партийного контроля (19 февраля 1962 года) Хрущев пишет:
«При Сталине функции контроля были целиком переданы государственной безопасности, которые в то время стояли … над партией». Теперь он предлагает «объединить государственный и партийный контроль по всем линиям (не только хозяйственным, партийным, но и МВД, КГБ и армии). Все ответственные работники комитета утверждаются ЦК КПСС».
Все это, возможно, и привело бы в будущем к каким-то незначительным сдвигам в структуре советского управления, но новая катастрофа поджидала Россию и Хрущева уже в этом году.
Мечтой Хрущева, как мы писали, в течение многих лет был разумный сбалансированный бюджет, без дутых цифр в отчетах, без фантастических, взятых с потолка и сталинского прошлого цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, на сырье, товары легкой и тяжелой промышленности.
Серьезным камнем преткновения в разумном ценообразовании была цена на хлеб. Основным стимулом роста производства любой продукции, но в первую очередь сельскохозяйственной (а Хрущев собирался перегонять США по производству молока, масла и мяса на душу населения), что, наконец, понял Хрущев была материальная заинтересованность, а не комсомольский задор и преданность коммунистическим идеалам.
Далеко не такими темпами как хотелось Хрущеву, но жизненный уровень в стране в сравнении со сталинским временем, действительно, заметно вырос. На треть были повышены все зарплаты в госсекторе, а пенсионный возраст снижен и рабочая неделя сокращена. Сами пенсии выросли вдвое, резко возросли отпуска по беременности и родам. В этих благоприятных условиях, продолжался рост населения. В результате усилий сперва Маленкова, потом — Хрущева, наконец, появились в магазинах продукты питания, но молока, масла, мяса, куриных яиц — да еще для растущего и все больше зарабатывающего населения все-таки то и дело не хватало. Коммунистических иллюзий у Хрущева уже было мало: выход был один — раз за разом повышать закупочные цены и в колхозах и у отдельных крестьян. Только этот стимул реально работал. Но с 1952 по 1963 год эти цены уже были повышены на центнер пшеницы в 8 раз, на картофель — в 15 раз, на овощи — в четыре, на говядину в шесть раз, на яйца — в три с половиной и на молоко — почти в пять раз. А сталинские продажные цены, когда продуктов в магазинах не было вообще (кроме Москвы), и цены на них даже демагогически снижались, до 1962 года оставались на том же уровне. И не было, даже сокращая до минимума военные расходы, в стране денег, чтобы эти ножницы в ценах не превратились в финансовую катастрофу.
К тому же стремление Хрущева обеспечить народы СССР мясом, маслом и молоком неизбежно натыкались на новую проблему — и птицу и скот в стране нечем было кормить. Кормовые хозяйство не только требовало все новых капиталовложений, но, главное, вполне разумный план Хрущева с внедрением кукурузы хотя бы на силосную массу для скота потерпел сокрушительную неудачу и вызвал одни насмешки. Во-первых, сработала, как и при Екатерине II с картофелем, инерционность крестьянского мышления, совершенно не соответствующая скоропалительным планам и темпераменту Хрущева. Во-вторых, и это было особенно важным, — кукуруза требовала тщательного и непрерывного ухода, а разоренная, изможденная и никому не верящая русская деревня не хотела, да и не была способна работать и следить за урожаем так, как это делал на своем поле американский фермер.
В результате кормов не было, но теперь был в государственных магазинах хлеб, сталинскую цену которого по политическим причинам нельзя было повысить. Больше того, Хрущев помня о голоде и людоедстве в СССР на несколько лет в столовых и кафе сделал хлеб бесплатным. Но теперь продажная цена хлеба в магазинах каждый раз, когда Хрущев повышал закупочные цены на мясо, чтобы оно появилось в магазинах, делала выгодным кормить телят или свиней хлебом. Если бы хотя бы пусть не кукуруза или ее стебли, а более дорогая пшеница продавалась крестьянам на откорм своего скота — государству все же это было бы выгоднее. Но советская система этого не позволяла, зерно хранилось элеваторах, перевозилось на хлебозаводы, выпекалось, а уж потом мешками буханки относились домой на прокорм скота. Это была обычная бессмыслица советской системы — ее экономический замкнутый круг. Но в 1962 году он перерос в трагедию, которая стала одной из основных вех правления Хрущева.
Расстрел рабочих в Новочеркасске, не только запомнился, как одно из трагических событий в жизни России, но (что мало кем осознается) был не просто символом, но бесспорным показателем всего того, что к этому времени смог сделать Хрущев и чего, совершенно необходимого, не сделал. Собственно говоря, этот расстрел, как расстрел рабочих у Зимнего дворца в январе 1905 года для императора Николая II, был своеобразным объемным снимком всей глубоко противоречивой и неустойчивой эпохи правления Никиты Хрущева. Напомню лишь общую канву событий, хотя никогда не забуду гораздо более подробные рассказы Петра Сиуды, одного из рабочих, не расстрелянного после подавления мирного бунта, а получившего и отсидевшего «четвертак», сразу после освобождения пришедшего в «Гласность» и вскоре убитого якобы из-за ссоры возле пивного ларька сотрудниками КГБ в годы горбачевской перестройки.
В Новочеркасске, как и у Зимнего, смешались проблемы объективные и случайные, субъективные, но главным оказалось одно и то же: отсутствие, по причине полной к этому неготовности, на месте событий главного действующего лица. Народ, пришедший в 1905 году к Зимнему дворцу с хоругвями и иконами с ликованием встретил бы государя Императора и не было бы кровавых бунтов и революции 1905 года. Хрущеву было бы труднее, но и он мог (теоретически) превратить возмущение рабочих, стремившихся все ему рассказать, в свой триумф. Но все сложилось иначе. Объективными причинами событий в Новочеркасске была первая попытка Хрущева как-то сбалансировать закупочные и продажные цены, хотя и в этот раз повысив закупочные цены на скот, птицу, животное масло и сливки на 35%, а розничные цены по-разному, но ниже на мясо были повышены только на 30%, масло и молоко на 25%. На самом деле и этого было вполне недостаточно, но ничего другого внутри советской системы Хрущев придумать не мог.
На самом деля для сбалансированного (по советским меркам) бюджета продажные цены надо было каждый раз повышать одновременно с закупочными. Но Хрущев все тянул до последнего с этим непопулярными социальными решениями, понимая, что не только крестьяне, но и горожане голодают и платить им нечем и повысил цены на молоко и мясо лишь тогда, когда никакого выхода уже не было. И все же проблема была и в том, что повышение закупочных цен улучшало положение колхозов и совхозов, то есть крестьян, а повышение цен продажных на продукты питания ухудшало в первую очередь положение горожан, то есть равенства не получалось.
К числу субъективных обстоятельств, хотя и они были вполне привычны, относится совпавшее с повышением цен рядовое повышение планов выработки и соответственно — понижение заработков на заводах (производительность труда в СССР не была особенно высока, ниже чем в США в 2-2.5 раза и росла медленнее его оплаты) и обыкновенная наглость местного начальства, предложившего рабочим, если нет мяса «есть пирожки с ливером». Поразительная историческая калька с Марией-Антуанеттой, предложившей народу заменить хлеб — пирожными.
А дальше в Новочеркасск к мирным, но возмущенным и бастующим рабочим приехал не Хрущев, который должен был приехать, который все рвался ехать к демонстрантам, но его в президиуме ЦК смогли уговорить не делать этого важнейшего шага в его жизни, а Фрол Козлов — тогда второй и наиболее жесткий в руководстве человек в стране. И неглупый, но говоривший с чудовищным и малоразборчивым в микрофон армянским акцентом и не нашедший нужных слов и решений Анастас Микоян. Именно в Новочеркасске стало очевидным то самое важное в чем Хрущев стал предателем великого дела Сталина: он лишил советские «винтики» животного страха и сосущего голода. Но не сделал из этого нужных выводов.
И лишь в воображении (а, может быть, в мечтах) можно представить себе, что к рабочим приехал бы сам Никита Сергеевич Хрущев и сказал бы им вполне понятные, а главное, абсолютно правдивые слова:
– Если бы я не сокращал все эти годы раз в пять и милицию и КГБ, не уничтожал их структуры стукачей и осведомителей, вы бы и близко ни о чем не успели договориться, не то что — выйти на улицу, как уже сидели бы по каталажкам и вас били бы смертным боем за любое слово, сказанное соседу. Да и сами дома, в которых вы живете (я знаю вы называете их «хрущебами») построены бы не были и вы как и десять лет назад ютились бы по пять человек в одной комнате грязной коммунальной квартире. Если бы не повышались все эти годы закупочные цены, вы бы только во сне видели мясо и масло, да и ваших зарплат едва ли хватало бы на покупку раз в месяц крупы после двухсуточной очереди с ночами напролет и номерками химическим карандашом на ладонях.
Хрущеву не надо было бы говорить даже об ядерной войне, которую готовил Сталин и от которой половина из них погибла бы сразу, а оставшиеся медленно издыхали от лучевой болезни. Хватило бы и того, что я перечислил выше и Хрущев, может быть, был бы все же понят. Такое выступление могло бы превратиться в его блистательную победу. Это не было особенно вероятным — к 1962 году неприязнь к Хрущеву у народа была достаточно велика, но некоторые шансы у него были. Что особенно важно — это была бы не только его личная, а победа всего его курса и за его плечами были бы не хитроумные политические интриги в Кремле, а почти им заслуженная народная поддержка. Хотя, конечно, он далеко не был государем императором с доверием и религиозной выработанной веками верой в него. Но Хрущев к этому, даже в своем любопытном внутреннем развитии, может быть, будет готов, но только через два года — как раз тогда (как у Александра II), когда деятельность его прекратиться. А тогда, когда это было уже остро необходимо, он даже не попытался завоевать народное доверие. Я уже не говорю о том, что весь все еще полусталинский Советский Союз, все официальное советское общество, пусть и опережаемое Хрущевым в его внутреннем развитии, совсем не были готовы к такому разговору кремлевского владыки с простыми людьми. Вместо всего этого был расстрел ни в чем не повинных рабочих, их жен и мальчишек, сидевших на деревьях, а потом суды. Следствием трагедии в Новочеркасске было пусть не очень значительное, но единственное в годы правления Хрущева, увеличение численности сотрудников КГБ (на 400 человек). И все это было глубочайшим и фатальным поражением Хрущева.
Но прежде чем перейти к последним годам правления Хрущева необходимо напомнить о заключительном и одном из четырех важнейших событий 1962 года, конечно, чисто политическом, хотя всегда обсуждаемом литераторами и художниками, на первый взгляд необъяснимо противоречивом, но в сущности вполне очевидном:
– публикации в ноябрьском номере журнала «Новый мир» повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»;
– и криках Хрущева об искусстве всего через неделю 1 декабря на выставке «30 лет МОСХ’а» в Манеже, а потом выступлениях на последующих встречах с интеллигенцией.
В тех редчайших случаях, когда Хрущеву приходилось касаться вопросов культуры он, как ко всему, чем занимался в жизни, относился к ним, как проблемам политическим и только политическим. Никакие симпатии, антипатии или проблемы художественного вкуса и образования для него значения не имели.
Так было в 1954 коду, когда ему приходилось лавировать, чтобы не допустить повторения нового доклада Жданова, а желающие его написать в ЦК КПСС были.
Так было в 1956 году, когда роман Пастернака и сам его автор были оплеваны, затравлены, казалось бы без серьезных для этого оснований, если не помнить о политическом курсе — революционное наследство не допускает обсуждений. И когда уже на пенсии он, наконец, прочел «Доктора Живаго» и сказал, что в 1956 году роман можно было напечатать, дело было не в том, что художественные вкусы его изменились и стали более цивилизованными, а в том, что он понял политическую возможность введения романа в обусловленные временем и им самим политические рамки выбранного им курса. Те же Симонов, Сурков и Кожевников написали бы восторженные рецензии в духе отзывов о «Кавалере золотой звезды» Бабаевского и был бы затерян сложный интеллектуальный роман в море советской литературы.
Так было в нескольких частных вопросах: возможность гастролировать за рубежом Святославу Рихтеру, присуждение главного приза конкурса Чайковского американцу Вану Клиберну, а Московского кинофестиваля — итальянцу Фредерико Феллини. Хрущев принимал разумные, важные для его курса, политические решения.
Все тоже самое происходило и в конце 1962 года. Конечно, повесть Солженицына во многом подходила и даже слегка нравилась Хрущеву. Но он принял политическое решение о ее публикации совсем не в результате сильно преувеличенных похвал ей Твардовского и собственных литературных симпатий, а потому, что это был важный для него политический шаг. Публикация даже сравнительно оптимистического и не вполне точного рассказа о Колыме (из-за небольшого лагерного опыта Солженицына) должна была быть для Хрущева тем самым несостоявшимся обращением в том числе и к рабочим Новочеркасска, попыткой сделать десятки миллионов людей в Советском Союзе его сторонниками, его опорой в трудной политической борьбе. Именно так эту публикацию понимал, конечно, и сам Хрущев и именно поэтому так жестко добивался на ее согласие в Президиуме ЦК. Именно так это и было понято многими в различных группах советского руководства, все более оппозиционно относящегося к Хрущеву.
Уже описанный удар по партийному аппарату после XXII съезда с разделением его на сельскохозяйственный и промышленный, с перевыборностью каждый раз трети любой партийной структуры, с созданием своей партийной спецслужбы в виде КПК сопровождался и новыми обвинениями в адрес Сталина и уже расширенным перечислением репрессий. Отношение к репрессиям опять стало показателем отношения к Хрущеву, показателем уровня его политического влияния и возможностей по этим, гораздо более широким политическим причинам, чем один только антисталинизм и восстановление исторической справедливости. Позади у него было два поражения в этом году: неудача с ракетами на Кубе и расстрел в Новочеркасске, как показатель слабой и неудачной социальной политики.
Именно Хрущеву важно было вслед за его якобы спонтанными обвинениями в адрес Сталина на XXII съезде настоять на публикации повести Солженицына. Что, как мы знаем, ему и удалось, правда, не с первого раза. Два русских крупных политика Хрущев и Солженицын впервые встретились друг с другом, еще не вполне понимая, что предстоит каждому из них. Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» была очень громким, сперва казалось — оглушительным политическим успехом, сразу же были написаны восторженные статьи в «Известиях» и «Литературной газете» и чуть более осторожная — в «Правде». Вероятно, причин было несколько, но Хрущев понял, что он переборщил. Эксперимент с «Одним днем Ивана Денисовича» показал, что поддержка его далеко не безусловна, политическое положение совсем не прочно.
Возможно, самым существенным для Хрущева оказались отказы Шелепина и Суслова согласиться с публикацией в «Новом мире». Шелепин не был членом Президиума ЦК, в принятии самого решения голоса не имел, но он был главной опорой Хрущева в контроле за партаппаратом, за его спиной был КГБ и ВЛКСМ, да и много бывших комсомольцев. С его мнением приходилось считаться. Почитателей Сталина и сейчас в стране больше половины населения, в те времена их было значительно больше, в первую очередь в руководстве армии. Существовало непреодолимое отвращение и недоверие у советских народов ко всему даже внешне хорошему, что исходило из Кремля и что обрекало на неудачу любые реформы. Авантюра на Кубе противопоставила СССР и Хрущеву европейские и американскую демократии. Крики в московском Манеже — оттолкнули, как ему казалось на время, советскую интеллигенцию. Хрущев был занят политикой и это была ошибочная политика. Очень любопытное свидетельство мы встречаем в книге зятя Суслова. Как раз за несколько дней до выступления в Манеже, в ноябре 1962 года на вечере после вручения Суслову звезды Героя Советского Союза, Хрущев произнося тост за его здоровье, внезапно заявляет:
– Вот, говорят, Суслов меня снимет с поста.
Никто Хрущеву (в том числе и сам Суслов) не возражает.30
Об источниках «могущества» Суслова, как характеризует его положение в руководстве страны Рой Медведев, никто внятно не пишет. Сам Медведев упоминает, что Суслов тщательно скрывал источники своего влияния. Его зять тоже несколько недоуменно замечает, что не знает, чем оно объяснялось.
Но некоторые предположения можно сделать, как раз вспомнив покаянное выступление Хрущева на встрече с интеллигенцией. Как мы понимаем главным в нем было не мнение о творчестве Андрея Вознесенского, Виктора Некрасова и Эрнста Неизвестного, а заявление об усилении противостояния с Западом, высоких достоинствах Иосифа Сталина и — довольно неожиданно — об отсутствии во все времена в Советском Союзе антисемитизма («Бабий яр» Евтушенко был, конечно, только удачно подобранным предлогом). И в последнем сразу же можно нащупать тонкую ниточку.
Это Суслов был в ЦК и даже в Политбюро основным по воле Сталина руководителем компании «о безродных космополитах» и даже (после «выдавливания кабардинцев из горных ущелий» усмирения «лесных братьев» в Литве), возможно, автором проекта выселения всех евреев в Биробиджан — впрочем, скорее активным участником его реализации, как глава Агитпрома.
Любопытно, что компанию вполне антисемитского «дела врачей» – активно поддержал в письме к Сталину маршал Конев. То есть не только руководством всей политической работы (политуправлением армии) связан с маршалами Суслов, но и конкретной, срочно упоминаемой Хрущевым, антисемитской компанией в СССР, которая, кстати говоря, как и многое другое никогда не была осуждена и признана. Это всегда были лишь личностные реабилитации: Соломона Михоэлса, врачей, членов антифашистского еврейского комитета.
Собственно говоря и все остальные покаяния Хрущева адресованы той же среде — просталинистски и антизападно настроенным руководителям советской армии. И потому с достаточными основанием можно полагать, что «могущество» Суслова, который, кстати говоря, в эти годы курирует и международные отношения в ЦК КПСС и который готов и может по мнению Хрущева его «снять» уже в конце 1962 года, основано как раз на достаточно очевидной поддержке большинства советских маршалов. Суслов, основной целью которого было поддержание равновесия, стабильности в советском обществе, решил, что Хрущев нарушил это равновесие, что его антисталинские выступления (несанкционированные Президиумом) и публикация повести Солженицына нарушают хрупкое равновесие в стране и при общей слабости позиций Хрущева после поражений 1962 года делают его положение очень уязвимым.
Трудно сказать каким был разговор Хрущева и Суслова, известно одно (из воспоминаний Сергея Хрущева и других мемуаристов), что именно Суслову было дано Хрущевым обещание отправиться на выставку («30 лет МОСХ’а») в Манеж. Очевидно, заранее были согласованы «спонтанные» крики Хрущева о художниках, а Эмилю Белютину — руководителю группы молодых модернистических художников внезапно было предложено привезти в Манеж их картины, чтобы иметь бесспорный повод для нецензурной брани.
Хрущев открыто и сразу же, конечно, вынуждено пошел на попятную именно в той области, которую курировал Суслов.
Итак, 1 декабря состоялось много раз описанное и толком никем не понятое, скандальное посещение Хрущевым выставки в Манеже. Эрнст Неизвестный, многие другие художники и вся российская интеллигенция восприняли вопиющую грубость Хрущева, как следствие его безграмотности, неспособности понять передовое и профессиональное русское искусство. Между тем Хрущев действительно портреты Боровиковского от портретов Фалька отличить не мог, так же как скульптуры Эрнста Неизвестного от Федора Шубина, но, главное, все они ему были глубоко безразличны. Его крики в Манеже были еще одним (из многих) спектаклей, понял это как спектакль Хрущева один только Элий Белютин. Но в этом спектакле, в котором Хрущев на самом деле бранил не художников и скульпторов, а публично вынуждено и, конечно, для вида, на время отказывался от почти всего своего предыдущего курса: от антисталинизма, от политики почти сотрудничества с Западом для повышения стандартов жизни советского человека и, в том числе, от культурного, интеллектуального свободомыслия и либерализма. Это вовсе не был безусловный конец всего — Суслов явно не хотел серьезного изменения курса Хрущева, а настаивал лишь на большей осторожности. В 1963 году было прекращено глушение зарубежных государственных радиостанций (ВВС, Голоса Америки, Израиля и других), что, конечно, не могло быть сделано без ведома Суслова.
Но ровно тот же смысл, что и крики в Манеже, имели обе встречи Хрущева с советскими писателями. «Мороз красный нос» и «Русские женщины» Некрасова Хрущев, конечно, в молодости читал или хотя бы слышал о них, но читать «Путевые заметки» Виктора Платоновича Некрасова или стихи Андрея Вознесенского ему никогда и в голову не приходило. Хрущев на этих встречах вел серьезную тактическую, политическую игру, вовсе не делясь своими художественными вкусами, сдавая одни позиции для того, чтобы сохранить основные, удержать в своих руках власть и продолжить начатые им кардинальные преобразования советской системы правления, которые в конечном счете и могли создать основы для либерализации общественной жизни и относительной свободы культуры. В тоже время по-прежнему исключительно с политических позиций защищал идеологические основы созданной им модели власти. Критика принесшего советскому кино мировую славу фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» для Хрущева имела серьезное основание: война должна оставаться примером безудержного героизма советских людей, «оптимистической трагедией», но никак не временем личных человеческих катастроф и сомнительных освобождений от фронта.
Тем не менее основным в этих встречах с интеллигенцией были совсем не мнения о творчестве Эрнста Неизвестного и Евгения Евтушенко, а
– длительное, чуть ли не в полчаса, прямо противоречащее его же выступлению на XXII съезде КПСС, рассуждение о бесспорных достоинствах и заслугах Иосифа Сталина;
– категорическое заявление, что в СССР не только сегодня нет, но и никогда не было антисемитизма, внезапно реабилитирующее уже осужденных за это убийц Михоэлса, не говоря и о многом другом;
– «Надо закрыть каналы, через которые проникло это чуждое нашему народу западничество», как будто бы не сам он их открывал.
«Мы отвечаем за государство, следовательно, мы должны бороться и отстаивать то, что мы считаем нужным и полезным для нашего человека, для нашего общества».
То есть эти выступления Хрущева, как и все в его жизни, чисто политические и к искусствоведению отношения не имеют.
Впрочем, интеллигенцией это почти так и понималось хотя казалось причудами Хрущева, вызывало разочарование в Хрущеве, а не вызывавшими сочувствие уступками в борьбе за власть.
– Литературный вопрос здесь был на самом острие политики, – пишет Владимир Лакшин, – сам Хрущев то наступал, отступал в своих разоблачениях Сталина.31
В первой половине 1965 года — в КГБ еще Семичастный и кажется, что хрущевская оттепель продолжается, за распространение антисоветских «анонимных документов» к уголовной ответственности было привлечено 13 человек, а установлено 492. С 405 из них были проведены «профилактические собеседования». В мае-январе 1964-65 года цифры не так оптимистичны, но тоже по советским понятиям очень либеральны: из 385 политических преступников более половины — 225 человек (58,4%) всего лишь «профилактированы»32
Но для советской интеллигенции нежелание врать важнее, чем следование труднопонимаемому сложному курсу Хрущева.
Именно 1962-63 год, когда реальные преследования по политическим мотивам в СССР были сведены до советского минимума, даже в лагерях у заключенных появились наколки на лбу «Раб КПСС», А.Г. Мурженко и В.А. Балашов создают «Союз свободы и разума» и тиражом 350 экземпляров распространяют листовки с призывом к изменению существующего строя, а у Юрия Гримма и Николая Хасянова тираж размноженных фотоспособом листовок доходит до тысячи экземпляров. В ноябре 1963 года необнаруженные оппозиционеры разбрасывают в метро, в подъездах ЦК КПСС и даже разбрасывают с верхних ярусов магазина «Детский мир» антисоветские листовки.
Братья Стругацкие пишут знаменитую антиутопию «Трудно быть Богом» о том, что навязываемые благодеяния неизбежно приводят к деспотии — и общество и Хрущев одинаково понимают, что необходимы серьезные перемены. К несчастью, между ними существует партийно-государственный бюрократический аппарат и сталинские маршалы, которым перемены не нужны и они успешно задавят все их попытки и сверху и снизу.
Возможно, благодаря этому тактическому отступлению ему еще на полтора года удалось удержаться в Кремле — соглашение с Сусловым оказалось действенным и мы ничего не знаем об организованной оппозиции Хрущеву еще в течение года.
Итак, не имея возможности опираться на тех, для кого он больше всего сделал — миллионные массы рабочих и крестьян и советскую интеллигенцию, да и как на них опираться — устраивать народное восстание, в котором он и сам погибнет, Хрущев идет привычным ему путем тайных политических интриг и внутренних радикальных преобразований.
Временной стабилизации своего положения в Президиуме ЦК Хрущеву удается добиться. В обмен на его собственные похвалы Сталину на встрече с интеллигенцией Суслов на февральском пленуме ЦК КПСС в 1964 году выступает с критикой Иосифа Виссарионовича. Суслов выполняет свое обещание и поддерживает Хрущева, но в это время уже идет подготовка к свержению первого секретаря уже без его участия. Из случайных и отрывочных источников мы довольно многое узнаем о том, чем же втайне занят Хрущев начиная с конца 1962 года. Произведенное им в это время уже упоминавшееся разделение обкомов, хозяйственных и административных отделов ЦК КПСС партии на сельскохозяйственные и промышленные, выделение из всех райкомов, а их были сотни по стране и далеко не всюду была промышленность — парткомам промышленных объединений теперь нечем было руководить. Что особенно существенно, сельскохозяйственные подразделения райкомов партии, делились на части и переезжали из районных центров в несколько крупнейших в этом районе центров. Впрочем, и там парткомы продолжали руководить специалистами сельского хозяйства (сами ими не будучи) в руководствах производственных объединений, председателями колхозов и директорами совхозов — реформа управления не дает результатов. Поэтому к лету 1964 года Хрущев решает парткомы заменить (назвать) политотделами теперь уже во всех смыслах, как политработники в армии, партаппарат на районном уровне становился подчиненными хозяйственным руководителям — начальникам производственного управления. Примерно тоже происходило и с промышленными парткомами, которые тоже попадали в зависимость от хозяйственников и это был настолько важный вопрос не просто управления сельским хозяйством и промышленностью, но резкого снижения уровня влияния в партии в стране, что и Шелепин, и Суслов, снимая Хрущева, обвиняют его в первую очередь в выступлении (для них неожиданном) на июльском пленуме ЦК 1964 года, где он говорит об этом. Президиум ЦК «отзывает» записку Хрущева партийным организациям об этом, а сам пленум собранный для отстранения Хрущева официально посвящен именно этой реформе в сельском хозяйстве.
Все это вызывало, конечно, величайшее неудовольствие у всего партийного руководства и аппарата всех уровней и на первый взгляд и впрямь кажется нелепым. В каждой области появилось по два обкома КПСС. Они с трудом находили общий язык, общее решения и с точки зрения единоличного управления, конечно, все это означало во многих случаях хаос и неразбериху. Но в долговременной перспективе начинали создаваться управленческие структуры с достаточно разными интересами, зачастую размещавшиеся в разных городах: география размещения промышленных и сельскохозяйственных объединений не совпадала одна с другой, с различным (систематически переизбирающим своих руководителей в соответствии с решением о ротации) электоратом — пусть пока только партийным. То есть это было не только создание хаоса в управлении, в чем все обвиняли Хрущева, и даже не только мощный удар по партийному аппарату КПСС по всей стране, когда-то приведшему его к власти и многие годы бывшему его опорой, а теперь ставшему прямо ему враждебным, что с большим опозданием понял Хрущев. Далеко не все это поняли (партийная демагогия оставалась прежней), но были и такие — это выяснилось в процессе отставки Хрущева.
Но на самом деле он шел еще дальше и об этом есть случайное свидетельство посла в Норвегии Николая Лунькова, услышавшего и передавшего Громыко фразу Хрущева, сказанную им редакторам «Известий» и «Правде» Аджубею и Сатюкову во время поездки в Норвегию, меньше чем за два месяца до отставки:
– А что если нам создать две партии: рабочую и крестьянскую?33
Впрочем, вполне ясно об этом же пишет Полянский в незачитанном постановлении Президиума ЦК с обвинениями в адрес Хрущева. По мнению партаппарата он пытается:
– свести к нулю роль парткомов производственных управлений, ликвидировать партийные органы на селе и поставить промышленные парткомы в зависимость от совнархозов;
– разделить партию надвое, создать два крыла в партии — рабочее крыло и крестьянское крыло.
Несменяемое единоначалие по всей стране Хрущевым было уничтожено. Одна партия как-то заметно стала делиться на части. Теперь уже можно было на выборах выдвигать по нескольку кандидатур — становилось ясно, кто их будет выдвигать. Партийные организации пока еще покорно молчали, жестко, как казалось Хрущеву, контролируемые Шелепиным.
Но этот сокрушительный удар по КПСС и однопартийной системе был лишь частью задуманного Хрущевым плана глобального реформирования всей политической структуры Советского Союза. С середины 1962 года по рассказу (к сожалению, довольно невнятному) сына Хрущева начинает под руководством абсолютно преданного ему тогда Ильичева работать комиссия ЦК по подготовке новой конституции. О фантастических (для коммунистической тоталитарной страны) результатах работы этой комиссии мы узнаем немного, но все же из трех источников. Один — записки Федора Бурлацкого. Бурлацкий по обыкновению все переводит на себя одного, никого другого не упоминает, работу комиссии не описывает, все начинает с 1964 года, когда был к этому привлечен, но и то, что мы читаем в его книги звучит поразительно:
«Вслед … за попыткой перестроить партию Хрущев задумал еще более радикальное изменение нашей политической системы. И вот в начале 1964 года мы — я и один из заместителей заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК — были откомандированы на все ту же дачу Горького для подготовки проекта новой Конституции СССР. Нам поручили собрать в предварительном порядке все лучшие предложения и подготовить записку для Хрущева и других членов Президиума ЦК.
Надо сказать, что тут мы несколько «разгулялись» и подготовили записку об основных принципах новой Конституции , которые резко отличались от так называемой сталинской, принятой в 1936 году. Мы ставили задачу узаконения политической власти, проведения свободных выборов, разделения власти. … я предлагал создать стабильно работающий Верховный Совет СССР, проводить альтернативные выборы в Советы посредством выдвижения нескольких кандидатов на одно место, учредить суд присяжных. …
Одно из главных предложений состояло в установлении президентского режима и прямых выборов народом главы государства. В нашей записке говорилось, что Первый секретарь ЦК должен баллотироваться на этот пост, а не замещать пост Председателя Совета Министров СССР. Предполагалось также, что каждый член Президиума ЦК будет выдвигаться на крупный государственный пост и важнейшие решения будут приниматься не в партии, а в органах государственной власти.
Хрущев в целом довольно одобрительно реагировал на наши предложения. К сожалению, работа над новой Конституцией была оборвана из-за его падения».34
Для Бурлацкого прекращение этой, как он понимал, главной в его жизни работы стало, как он пишет, причиной ухода со своей значительной должности в ЦК КПСС — руководителя группы советников в «Отделе» Юрия Андропова.
Хрущев не просто «довольно одобрительно» реагировал на предложения Федора Бурлацкого (впрочем, не только его, а работу представительной и достаточно радикальной конституционной комиссии, которой сам же и руководил). В 1964 году продолжались уже вполне серьезные преобразования, о которых рассказывает в своих воспоминаниях Анастас Микоян:
«Я оставался Председателем Президиума Верховного Совета СССР. На эту должность Хрущев уговорил меня перейти летом 1964 г. с целью превратить Верховный Совет в действующий парламент. Он говорил: «Почему буржуазия умнее нас? У них парламенты создают впечатление участия народа в управлении. Это, конечно, фикция, но очень здорово показывает народу, что он может влиять, и даже решающим образом. Почему же наш парламент только штампует решения ЦК и правительства? Министры чихать хотели на наш парламент, а в Англии они отчитываются перед парламентом, отвечают на их запросы и т.д. Почему нам тоже не сделать так, чтобы Верховный Совет вызывал для отчета, пропесочивал бы их. Более того, он может и вносить предложения в правительство об изменении каких-то решений». Хрущев рассуждал совершенно правильно. Это пример того, что у него появлялись прекрасные новаторские идеи.
«Чтобы осуществить это нелегкое дело, — продолжал далее Хрущев, — надо много энергии и труда вложить, сломить сопротивление аппарата. Для этого нужен авторитетный и решительный человек». По его мнению, с этим могли справиться только два человека: или он или я. Но он не мог совмещать три должности. И вообще такое новое дело требовало, чтобы ему посвятить все время, ни с чем его не совмещая.
…
Мои помощники собирали материал о правилах и нормах парламентской жизни в буржуазных странах, я даже поручил им собрать материал по статусу президента в тех разных странах, где он есть. Хрущев одобрил мою идею обдумать вопрос о переименовании Председателя Президиума в Президенты. Соответственно каждый республиканский глава Верховного Совета становился бы президентом у себя в республике и вице-президентом СССР. Это должно было импонировать республикам, поднять их статус»35.
Более четкий, но анонимный рассказ о хрущевском плане грандиозной реорганизации всей структуры советского руководства мы встречаем (к сожалению, без ссылки на источник) в книге «Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия», (издательство РОССПЭН, 1995 года). Книга эта написана группой профессоров историков и политиков (Ю.В. Аксютин, кандидат исторических наук; О.В. Волобуев, доктор исторических наук, профессор; А.А. Данилов, доктор исторических наук, профессор; Л.Н. Доброхотов, кандидат философских наук; В.В. Журавлев, доктор исторических наук, профессор; С.В. Кулешов, доктор исторических наук, профессор; С.А. Павлюченков, кандидат исторических наук; И.С. Розенталь, доктор исторических наук; А.К. Сорокин, кандидат исторических наук; В.В. Шелохаев, доктор исторических наук, профессор), которые не указывают, кто именно написал ту или иную главу, но в результате приходиться считать, что приводимая ими информация является бесспорной для каждого из них. Они пишут:
«Вернувшись в Москву (в июле 1964 г. – С.Г.), Хрущев выступает на скоротечном пленуме ЦК КПСС с неожиданной для всех речью. Он дает понять, что в ноябре (на сессии Верховного Совета — С.Г.) им будет предложена еще одна реорганизация управления сельским хозяйством и наукой, а также закончена работа над проектом новой Конституции, в соответствии с которой выборы отныне будут производиться из нескольких кандидатов и учреждается пост президента. Напомнил он и о правиле, зафиксированном на последнем съезде в партийном уставе, – не занимать выборные должности больше двух сроков. А 24 июля потребовал на расширенном заседании Президиума Совета Министров пересмотреть главное направление и задачи планирования на ближайшие пять лет. По его мнению, уж коль программа КПСС обещает в ближайшем будущем построить коммунизм, необходимо взять решительный курс на то, чтобы благосостояние народа росло как можно быстрее, для чего следует больше внимания уделять производству средств потребления, не забывая, конечно, при этом о должном уровне обороны».
Кроме того, что мы знаем о готовящейся конституции, любопытные дополнения выясняются из кратких записей заведующего общим отделом ЦК КПСС Владимира Малина, обвинений предъявленных Хрущеву 13-14 октября на заседании Президиума ЦК. Дважды повторяется уже известные нам обвинения в том, что теперь Хрущев «решил распустить производственные управления» – недавно им же вместо сельскохозяйственных отделов райкомов созданный механизм управления деревней и у партийного руководства оказываются потерянными рычаги этого управления.
Еще более серьезное обвинение (видимо имея для этого неизвестные другим участникам заседания) выдвигает, хотя и очень неопределенно Шелепин:
– Материалы по периоду коллективизации собирали…
Это единственный, хотя и вполне обоснованный намек на то, что неясная «реорганизация управления сельским хозяйством», которую собирается предложить Хрущев на сессии Верховного Совета через месяц будет такой же радикальной, как политические изменения в структуре управления страной. Любопытно, что «собирал материалы» Хрущев, по-видимому, тайком от большинства товарищей по партии.
Впрочем, есть сведения и о «собираемых Хрущевым материалах» и о готовившимся им докладе по сельскому хозяйству. Вице-президенту Академии наук и члену ЦК КПСС историку Петру Федосееву было поручено подготовиться и сделать на пленуме в ноябре 1964 года параллельный хрущевскому доклад о коллективизации 1932-33 года — голоде, депортации, разорении деревни. Институт истории АН СССР уже в конце сентября – начале октября 1963 года получил задание подготовить к предстоящему пленуму документальный материал о том, как проводилась сплошная коллективизация. Причем критического характера — цитирует Аксютин статью И.Е. Зеленина «Аграрная политика Хрущева и сельское хозяйство». И была сделана на двадцати страницах выписка для Федосеева и Хрущева из уже написанной Зелениным книги об этом.
То есть в докладе Хрущева на пленуме ЦК должно было быть четыре вопроса:
– обсуждение новой, демократической конституции СССР, превращающей его в современное цивилизованное государство, с зачаточной двухпартийной системой управления, установлением президентского режима и прямых выборов народом главы государства, каждый член Президиума ЦК будет выдвигаться на крупный государственный пост и таким образом важнейшие решения будут приниматься не в партии, а в органах государственной власти; Верховный совет будет собираться три-четыре раза в год, а комиссии Верховного Совета станут постоянно действующими, будет создан Конституционный суд, а в судебной системе суд присяжных, ликвидирована паспортная система, запрещен арест без санкции суда; появится право обжалование в суде незаконных действий должностных лиц, гласность будет расширена и введена свобода критики;
– конституция предполагала так же предоставление республикам права иметь собственные вооруженные силы, что стало бы важным шагом на пути к превращению СССР в конфедерацию;
– вопрос о реформе в сельском хозяйстве, сопряженный с рассказом о массовых преступлениях в ходе насильственной коллективизации, что, во-первых, делало невозможным сохранения в неприкосновенности колхозно-совхозного строя, и, во-вторых, было гораздо более сокрушительным и ударом по всей коммунистической системе, чем доклад на ХХ съезде: там речь шла о сотнях тысяч партийных и военных руководителях, здесь — обо всем искалеченном советском народе и многих миллионах безвинно погибших людей;
– естественным продолжением этого должен был стать вопрос об омоложении состава Президиума ЦК в нем не должны были оставаться соучастники массовых преступлений. Собственно, и сам Хрущев хотел просить об отставке. В руководстве должны были оставаться Шелепин, Андропов, Ильичев, Поляков, Сатюков, Харламов, Аджубей.
Кроме уже перечисленных публикаций важные сведения о проекте конституции содержатся — Смирнов Г.Л. Маленькие секреты большого дома. Воспоминания о работе в аппарате ЦК КПСС (Неизвестная Россия. Вып. 3. М., 1993. С. 378-380); Бурлацкий Ф. Никита Хрущев. С. 254.
То есть предстоявший в ноябре Пленум ЦК и сессия Верховного Совета, принимающая новую конституцию должны были по замыслу Хрущева стать гораздо более сокрушительным ударом по советской власти сталинского типа, чем даже ХХ съезд КПСС.
При все же явной недостаточности материалов о реформах, готовившихся Хрущевым, косвенным свидетельством об их серьезности служит как стремление заговорщиков удалить Хрущева из всех властных структур до назначенной на ноябрь сессии Верховного Совета для их обсуждения (в пересказе начальника охраны Игнатова Галустова Анастасу Микояну Игнатов уговаривает Брежнева: «Леня, я тебя прошу, это надо сделать до ноября». На этом же (скорейшей, до сессии Верховного Совета созыва пленума отставке Хрущева) настаивает и перепуганный его телефонным звонком Полянский). И уж, конечно, категорический отказ «товарищей» предоставить Хрущеву слово для прощального выступления на пленуме ЦК КПСС и даже отказ давать слово Полянскому — слишком откровенно в так и не опубликованном постановлении ЦК КПСС рассказавшему хотя бы о некоторых из подготовленных Хрущевым реформах. Характерно, что в ходе заседаний Президиума Мазуров обвинил готовившего реформы Хрущева в том, что он настраивает членов партии против руководителей аппарата КПСС.
Столь же любопытным является обвинение Хрущева в том, что желая понизить роль Пленумов ЦК КПСС и таким образом членов Центрального Комитета, он все пленумы последних лет собирал как производственно-хозяйственные активы, приглашая на них пять-шесть тысяч человек, большинство из которых не были членами ЦК, а были наиболее заметными руководителями промышленности и сельского хозяйства.
Особенно любопытным звучит странное обвинение сперва прозвучавшее в выступлении Шелепина на заседании Президиума ЦК, а за ним повторенное, конечно, не случайно Сусловым в речи на Пленуме:
– Нормальной работе Президиума ЦК мешало так же и то обстоятельство, что тов. Хрущев систематически занимался интриганством, стремился всячески поссорить членов Президиума друг с другом (Шелепин: «зачем вы натравливаете членов Президиума друг на друга?»).
В этом же ряду находится и обвинение Суслова в том, что Хрущев никого из партийного руководства (даже Косыгина) не подпускал к проблемам сельского хозяйства, а до этого:
– В каждом случае, когда ставился вопрос о поездке того или иного члена Президиума в ту или иную республику или область, тов. Хрущев делал язвительное замечание: «Если делать нечего, поезжайте. Туристическую поездку хотите совершить?».
Из этих реплик можно сделать три вывода. Во-первых, что Суслов честно выполнявший договоренность с Хрущевым — нет никаких сведений о его участии в подготовке заговора, был обижен, что Хрущев не привлекал его к своим важнейшим реформам. Во-вторых, что сторонников начатых глобальных реформ в стране, резкого сокращения роли КПСС по крайней мере в руководстве хозяйственной жизнью в стране, у Хрущева в руководстве в Президиуме ЦК КПСС почти не было. И во-третьих, что давало ему надежду, Хрущев знал, что его противники разделены на две противопоставленные друг другу группы и надеялся, что они не смогут договориться. Будучи опытным, циничным и многое повидавшим политиком он не рассчитывал на верность жизнью ему обязанного Семичастного — практически им воспитанного, брат которого был в плену, находился в лагере и это стало известно Сталину, но Хрущев на свою ответственность, письменно поручился за юного комсомольского лидера, точно так же он не рассчитывал на надежность Шелепина, которому им была дана почти необъятная власть и давались обещания, что именно он вскоре станет «преемником» дряхлеющего лидера. Больше того, по-видимому, он не вполне полагался на надежность и своего собственного зятя — Алексея Аджубея, который, действительно, не только не предупредил его о готовившемся заговоре, но сделал все, чтобы прорвавшийся к нему и сказавший ему о заговоре человек никуда больше не пошел и никому о заговоре не сказал.
Но Хрущев всерьез, по-видимому, рассчитывал (и с этим связаны обвинения в его адрес с одной стороны Шелепина, с другой Суслова об интригах и натравливании членов Президиума друг на друга), что эти две противостоящие друг другу группировки не захотят, не смогут договориться и выступить вместе против первого секретаря и его кардинальных реформ в политической жизни Советского Союза. При этом, конечно, понимая, что задуманные, а частью уже осуществленные им реформы одинаково враждебны обеим группировкам. В «Рабочих тетрадях» ничего не понимающего в кремлевских битвах Александра Твардовского за первую половину 1964 года встречаем характерную, сказанную ему фразу В.С. Лебедева — помощника Хрущева:
– Никита Сергеевич остался совсем один.
Далее мы перечислим и некоторые другие причины недовольства маршалов Никитой Хрущевым, но главная из них — стратегический план захвата всей Западной Европы уже был вкратце описан в главе об отношениях Хрущева с армией.
Совершенно очевидно, что это была последняя, к сожалению не датируемая в воспоминаниях Сергея Хрущева попытка маршалов привлечь на свою сторону Хрущева, которую побоялся осуществить Малиновский и она была поручена старинному приятелю Хрущева маршалу Гречко. После этой неудачи для советских (по происхождению и агрессивной природе) маршалов остался один путь — убрать Хрущева. Может быть, он и удержался и утихомирил бы маршалов — удайся ему авантюра с ракетами на Кубе, но это была практически невыполнимая задача. В лучшем случае все население Кубы было бы уничтожено, в худшем — Третья мировая война уничтожила бы все человечество. Ненавидели его в военно-промышленной среде и много лет спустя. Не зря же Дмитрий Устинов уже в восьмидесятые годы однажды сказал, что Хрущев нанес вред стране больший, чем любой другой ее лидер. Видимо, маршалы полагали, что из-за Хрущева было упущено время для победоносной третьей мировой войны.
И поэтому, надеялся Хрущев, как же они могут договориться с Шелепиным, который стал едва не основной опорой все более радикальных преобразований в стране.
И действительно казалось, что грандиозная реформа задуманная Хрущевым:
– двухпартийная система с резким сокращением влияния обеих частей КПСС на государственное управление;
– реальные выборы всех органов власти с несколькими кандидатами в каждую из существенных должностей;
– учреждение поста президента СССР, тоже выбираемого всей страной;
– не говоря уже об экономических реформах,
на первый взгляд вполне соответствовала уже упоминавшемуся нами «плану Шелепина», облегчала просоветскую пропаганду в Европе, делала более цивилизованным и приемлемым для Запада имидж Советского Союза. И обо всех этих начатых Хрущевым (иногда втайне) реформах Шелепин был осведомлен лучше, чем кто-либо в руководстве страны и следующим кандидатом в президенты (но, по-видимому, несмотря на все разговоры Никиты Сергеевича, все же после Микояна) планировался именно Шелепин.
Но, во-первых, он хорошо знал как непостоянен в своих планах и обещаниях конкретным руководителям Хрущев, как легко его милость сменяется абсолютным игнорированием и удалением со всех постов.
А, главное, реформы задуманные Хрущевым и впрямь превращали Советский Союз пусть в самое мощное, но лишь одно из действительно демократических государств Европы, в значительной степени устраняли возможность его безусловного главенства в «континентальной Европе» по очень удобной именно для этого случая формуле генерала Де Голля.
Между тем Шелепину нужна была декоративная демократизация Советского Союза, а не подлинная. Ему нужен был Советский Союз (с ударением на «советский»), а не современное самодостаточное демократическое государство. И, конечно, возможность управления «Европой от Урала до Атлантики» из Москвы такая же, как управляются из Кремля страны народной демократии и не два срока, а пожизненно. Хрущев разрушал необходимую при этом систему силового управления, шел слишком далеко и Шелепин безоговорочно поддержал Брежнева и Подгорного. К тому же Шелепин переоценивал свои силы, ему удаление Хрущева казалось лишь более быстрым и более надежным приходом к верховной власти.
Впрочем, Хрущев и перед отъездом знал о заговоре, понимал, почему «товарищи» отправляют его отдыхать. Сказав об этом на приеме в честь индонезийского президента Сукарно, куда пришел неожиданно и пообещал товарищам по Президиуму ЦК после возвращения много неожиданностей. Хрущев готовился к бою, который не состоялся и, явно, переоценивал надежность Шелепина и Семичастного, которых так высоко вознес. Но Шелепин явно Хрущеву не поверил, считал, что тот по обыкновению хитрит и думаю, что в этом был прав. Начиная грандиозные реформы, сравнимые лишь с теми, что были им проведены в 1953-1957 годах, Хрущев вряд ли бы отдал кому-то верховную власть в стране, меняющейся по его сокровенному плану.
Похоже, что из этого же исходил и стал противником Хрущева не только Шелепин, но даже зять Никиты Сергеевича Алексей Аджубей. В книге сына Хрущева «Пенсионер союзного значения» встречаем замечательный рассказ:
«В 1964 году брат Мэлора (Стуруа — С.Г.) Дэви работал секретарем ЦК Компартии Грузии. Летом, видимо, в преддверии июльской сессии Верховного Совета, он приехал в Москву. Прямо с аэродрома он поспешил на квартиру к брату. Мэлор давно не видел его таким обеспокоенным.
— Произошла неприятная и непонятная история, — едва поздоровавшись, начал Дэви, — затевается какая-то возня вокруг Никиты Сергеевича…
Он рассказал, что перед отъездом из Тбилиси имел встречу с Мжаванадзе, первым секретарем ЦК КП Грузии, и тот намекнул ему: с Хрущевым пора кончать. Конечно, не в открытую, но тренированное ухо безошибочно улавливает нюансы.
Теперь Дэви просил у брата совета: предупредить Никиту Сергеевича? Или промолчать? Ситуация складывалась непростая — грузину одинаково противны и предательство, и донос. А тут еще кто знает, какие следует ожидать последствия.
Мэлор предложил немедленно свести Дэви с Аджубеем. Его кабинет в «Известиях» доступен Стуруа в любой момент. Но… решение брат пусть примет сам. В этой семье хорошо знали, что может произойти, если Мжаванадзе, а особенно тем, кто стоит над ним, станет известно, кто разоблачил заговорщиков. Дэви колебался не более нескольких секунд и коротко бросил: «Пойдем». Через полчаса они входили в кабинет главного редактора второй по значимости газеты в стране.
Дэви коротко рассказал о своем подозрительном разговоре с Мжаванадзе. Аджубей кисло заметил, что грузины вообще не любят Хрущева.
По отношению к Мжаванадзе подобное замечание звучало по меньшей мере странно. (Василий Павлович до последних лет грузином числился лишь по фамилии. В 1953 году после смерти Сталина и ареста Берии отец оказался перед дилеммой: кого послать в беспокойную республику. Требовался человек надежный, проверенный. Вот тут он и вспомнил о служившем на Украине генерале Мжаванадзе. Он хорошо знал Василия Павловича по войне. Так генерал стал секретарем ЦК. Теперь Мжаванадзе превратился в одного из активных противников отца. Видимо, сработали старые украинские связи.)
Дэви Стуруа возразил Аджубею: он говорит не о Грузии, все нити ведут в Москву. Дело затевается серьезное.
Но Алексей Иванович не стал слушать, только бросил непонятную фразу: им с Шелепиным обо всем давно известно.
Братья Стуруа покинули кабинет обескураженными. Что известно? Кому известно? При чем тут Шелепин, если речь идет о Хрущеве?
Обсуждать столь опасную тему они больше ни с кем не решились. Алексей Иванович не обмолвился отцу о происшедшем разговоре ни словом».
Жену Аджубея — дочь Хрущева Раду тоже пытались предупредить о заговоре против отца, но как она сама пишет, она отказалась слушать и ничего не сказала отцу, поскольку ей все политические интриги и разговоры всегда были не просто не интересны, но глубоко чужды.
К тому же Шелепин гораздо лучше Хрущева понимал кто против него выступает и каков расклад сил в советском руководстве. Много знавший, но, к сожалению, далеко не обо всем написавший, Анастас Микоян о свержении Хрущева многозначительно обмолвился в книге «Так было»:
– Брежнева и Подгорного подтянули к этому делу.
А потом продолжил:
«Многие маршалы и генералы — члены ЦК — были против него за его перегибы в военном деле. Например, считал, что с изобретением ракет авиация окончательно теряет значение; что подводные лодки полностью заменят наземные корабли, поскольку последние — плавучие мишени для ракет. Думал только в масштабе большой войны, не учитывал особенности локальных войн. А именно они и надвигались, так как после Карибского кризиса обе стороны поняли, что надо избегать крайностей, которые могут незаметно подтолкнуть к третьей мировой войне, притом ядерной. Американцы раньше нас поняли, что локальные войны будут и именно к ним надо готовиться».
Достаточно информированный и старавшийся понять суть происходивших процессов Рой Медведев однажды мне сказал:
– Конечно, свержение Хрущева устроили военные, большинство маршалов.
– Но каким же был механизм начальной стадии заговора? Как они реально могли повлиять на положение в Кремле?
– У каждого члена Президиума ЦК было несколько близких им маршалов…
Документально не подтвержденные мнения Микояна и Медведева кажутся наиболее убедительной версией заговора. Брежнев, которого представляют инициатором свержения Хрущева, был патологический труслив, по рассказу Гавриила Попова последнюю ночь перед свержением боялся оставаться дома и провел у главного маршала авиации Владимира Судеца. Только инициатива мощной группы военных, к которым он всегда и особенно после изгнания из Политбюро в 1953 был очень близок, могла его подвигнуть на столь опасные шаги. Да и у Подгорного, конечно, были личные планы и, как у всех, обида на Хрущева, который просто третировал последние годы партийное руководство, возлагая на них вину за неудачу своих и хозяйственных и внешнеполитических планов, но вряд ли по собственной инициативе он затеял бы столь опасный проект. Впрочем, хотя их нынешнее положение казалось вполне безоблачным и благополучным, но готовившиеся Хрущевым реформы, о которых, конечно, они были осведомлены, неизбежно должны были это благополучие подорвать.
Военные противники Хрущева, конечно, были разными — министр обороны маршал Родион Малиновский, спасенный когда-то Хрущевым от гнева Сталина, присоединился к заговорщикам лишь в последний момент, узнав от Шелепина, что сторонников у Хрущева практически нет. Заговорщики на ранних этапах одни не могли простить Хрущеву уничтожения их родов войск, другие исходя из военно-государственных соображений считали, что Хрущев постоянно сокращая армию и отнимая у нее деньги на ни к чему не приводящие хозяйственные проекты донельзя ослабил военную мощь Советского Союза, третьи — сильно замаранные бессмысленной гибелью на фронтах Отечественной войны миллионов советских людей или писавшие доносы на своих коллег (а маршал Конев подлил немало масла в огонь сталинской антисемитской компании врачей-убийц) всерьез опасались, что недостаточно контролируемый процесс обнародования и разоблачение преступлений может и их привести на скамью подсудимых.
Но, я думаю, особенно удивительным для Хрущева было то, что собранный им аппарат ЦК КПСС, в 1957 году спасавший его от «антипартийной группы», в значительной степени оказался ему враждебен. Здесь центральную роль сыграл заведующий отделом Административных органов, когда-то почти сформулировавший так называемый «план Шелепина» Николай Миронов. Именно он, будучи лучше, чем кто-нибудь осведомлен о готовящихся Хрущевым втайне демократических реформах и будучи молчаливым, но жестким их противником, а возможно, по-прежнему сторонником Шелепина (об этом нет никаких сведений — архивные дела обоих засекречены на 75 лет, а пробившихся воспоминаний и публикаций очень мало) настойчиво вербовал на сторону заговорщиков и сотрудников ЦК КПСС (например, секретаря ЦК Петра Демичева) и постоянно приезжавших к нему аппаратчиков из других городов. Миронов, правда, вместе с главным маршалом ракетных войск Сергеем Бирюзовым через несколько дней после пленума 19 октября погиб в результате до конца не проясненной авиационной катастрофы и плодами своей работы воспользоваться не успел, но дело свое сделал.
Провинциальных секретарей обкомов неутомимо агитировал обиженный тем, что был на XXII съезде выведен из членов Президиума Николай Игнатов. На Украине тем же, после беседы с Подгорным, был занят Шелест — агитировал местных членов ЦК КПСС. КГБ и ЦК ВЛКСМ полностью контролировались Шелепиным.
Обработкой «промышленников» занимался Устинов — пишет в книге «Реформатор» Сергей Хрущев и цитирует воспоминания Владимира Новикова:
«В сентябре 1964 года, как-то вечером меня пригласил к себе Устинов, — вспоминал Владимир Николаевич Новиков. — Я отвечал тогда за СЭВ… и мой кабинет, как и кабинет Устинова, располагался в Кремле в одном коридоре. Я зашел к нему. У него сидел Александр Михайлович Тарасов, его заместитель по ВСНХ (в правительстве Косыгина он станет министром автомобильной промышленности). С места в карьер пошел разговор о предстоящем, причем не в ноябре, как намечалось, а на днях, Пленуме ЦК. Меня попросили подготовить два выступления, разоблачающие безобразия, “вытворяемые Хрущевым”, одно — Устинову, другое для себя.
— Хрущева снимают? — спросил я. Устинов подтвердил.
— Какая позиция военных и КГБ? — уточнил я расклад сил.
— Все в порядке, они с нами, — получил я ответ. Я согласился. … В течение трех дней мы с Тарасовым все подготовили. Устинов внес поправки, теперь оставалось ждать приезда Хрущева».
Впрочем, похоже, что роль Устинова, напрямую связанного с маршалами еще с довоенных сталинских времен (в отличие от Брежнева и Подгорного), в свержении Хрущева была гораздо более значительной. Впрочем, и с Брежневым Устинов был очень близок. Тот же Сергей Хрущев, но в другой книге воспоминаний («Пенсионер союзного значения») упоминает о том, что «после войны он курировал строительство ракетного завода в Днепропетровске, где Леонид Ильич возглавлял областную партийную организацию». Сергей Хрущев опять называет Устинова, как до этого — Шелепина и многих других противников отца «сталинистами», между тем они просто боролись за сохранение советской власти — ленинской-сталинской — и долгое время хрущевской, которую теперь Хрущев, убедившись в ее неэффективности и бесчеловечной сути, собирался на самом деле — разрушать или уж во всяком случае подорвать ее основы.
Уже 6 июня 1964 года все готово к аресту Хрущева по возвращению его из Финляндии, но встречает его в аэропорту командующий Ленинградского военного округа не посвященный в планы заговорщиков, множество других людей и разработанный план с его арестом в аэропорту — срывается.
Таким образом у Хрущева к августовскому пленуму практически ни в чем не оставалось опоры. Важно было, правда, не дать ему сказать на пленуме о ближайших планах — у кого-то они могли вызвать поддержку. И Хрущев согласился промолчать, прений на Пленуме предусмотрительные Брежнев и Суслов решили не открывать, а проводить голосование сразу же после выступлений членов Президиума, ясно показавших членам ЦК КПСС на чьей стороне сила. На те две силы, которые реально выигрывали от реформ: простой народ и интеллигенцию Хрущев не смог, не решился опереться. Впрочем, не нужно думать, что лишь Хрущев был ярым антисталинистом, а все его противники — приверженцами Сталина, это можно было сказать о советских маршалах, уже труднее о Шелепине и Семичастном, которые не поддерживали постоянные напоминания о преступлениях вождя, но лишь для того, чтобы сохранять идеологическую структуру советского общества и легитимность коммунистического правления. В еще меньшей степени это можно сказать о Михаиле Суслове, поддержавшем заговорщиков лишь в последний момент, когда не только увидел, что влиятельных сторонников у Хрущева нет, а любая поддержка вызовет лишь смуту в том хрупком обществе, где он старался поддерживать равновесие. Но как мы увидим в главе о Сахарове, именно Суслов не допустил реабилитации Сталина на XXII съезде КПСС в 1965 году.
Шелепин выступил на заседании Президиума ЦК КПСС с главной обличительной и вполне демагогической, как и полагалось в таком случае, и не словом не упоминавшей о подготовленных Хрущевым реформах, речью. Суслов с речью довольно формальной, но показавшей вполне доверявшему ему Хрущеву, что все против него и сделать уже ничего нельзя. Впрочем, Хрущев, преданный и проданный, как и полагается коммунистическому лидеру, в эти дни внутри коммунистического аппарата победил еще дважды: – он прилетел понимая зачем его зовут в Москву по вызову Брежнева, у которого едва не началась медвежья болезнь от страха. А ведь Хрущев мог улететь в Киев, где войска и аппарат, как он необоснованно полагал, были для него надежны, мог просто не явиться в Москву, в результате заседание Президиума ЦК не состоялось бы или было бы неправомочным, отставка бы не состоялась, как не состоялось предложенное Брежневым Семичастному его отравление, а потом — арест в аэропорту по возвращению из Скандинавии и в стране началось бы серьезное, возможно, военное противостояние: разных лидеров, разных идеологий. Понимая, какая группа маршалов ему противостоит, Хрущев позвонил бесспорному антисталинисту Жукову, но не стал срочно вызывать и его. Интрига не удалась, реформы завершить не удалось, а военного противостояния Хрущев не захотел. Да и что он мог — начать гражданскую войну со сторонниками сохранения коммунистического режима? На это Хрущев не был способен, да и никто за ним бы не пошел:
– интеллигенция ему не верила после Манежа;
– люди верующие — после закрытия монастырей и храмов;
– рабочие и крестьяне — после урезания приусадебных участков, запрета держать скотину, очередей за хлебом.
Семичастный, а в этом ему вполне можно доверять, отказал Брежневу в убийстве Хрущева. Впрочем даже с предательством и его и Шелепина у Хрущева, по-видимому, были какие-то возможности если не выиграть, то превратить в серьезное противостояние эту последнюю схватку. Сам Семичастный, удерживая членов ЦК до завершения заседания Президиума, говорит Брежневу, что многие из них приехали «спасать Хрущева», а значительная часть аппарата ЦК тоже не была готова поддерживать безоговорочно заговорщиков. Президиум побоялся обнародовать даже для членов ЦК слишком откровенное подготовленное Полянским постановление о планах Хрущева и без согласия Президиума ЦК он мог войти на трибуну и обратиться к членам ЦК и вряд ли кто-то смог бы его задержать. Наконец, Хрущев со своей новой программой в те недели, когда еще готовился заговор мог обратиться через средства массовой информации (а они все были в его руках) прямо к народу, когда-то это пробовал сделать Лев Троцкий, но к успеху это не привело, а в глазах всего партийного аппарата это был «предательский» шаг. Хрущев ничего этого не сделал, но Семичастный, хоть и оказался предателем, точнее оказался человеком более преданным Шелепину чем ему, но он был уже Председателем КГБ нового, хрущевского времени и отказал Брежневу в убийстве Хрущева, не повязал кровью всех членов нового кремлевского руководства. И это, конечно, сделало годы правления Брежнева чуть более спокойными и менее сталинскими. Хрущев не убил никого из своих противников в руководстве страны после Берии. Серов и Шелепин еще выполнили бы такой приказ Брежнева, а Семичастный уже отказался. И это была победа не только для Хрущева, но на время и для всей страны. Секретари обкомов думали иначе. По рассказу Супкова в передаче Твардовского они проводили молчавшего, подавленного , сидевшего с краю за столом президиума еще вчерашнего главу партии и государства улюлюканьем и свистом. Но Хрущев попрощался за руку со всеми заговорщиками — членами Президиума и только Шелепину тихо сказал:
– С тобой они поступят еще хуже.
Хрущев лучше Шелепина понимал и кто стоит за спинами заговорщиков и что было целью его отставки, и насколько отличаются их цели от надежд и стремлений Шелепина.
В завершение главы о Хрущеве осталось обдумать лишь две вещи: что Советский Союз приобрел за одиннадцать лет правления Хрущева и не могло ли быть в нашей истории этого времени лучшего, более благополучного и удачного правления.
Мировая державность, которой так гордиться его сын достигнутая на время с помощью бесстыдного шантажа, обмана, больших денег и зря израсходованных великих талантов русских ученых уже давно утеряна. Произошло это в значительной степени из-за политической ошибки Хрущева донельзя усилившего партийный аппарат, который в своей прожорливой жадности съел и самого Хрущева и мощь созданной им державы. Гораздо хуже, что тоже произошло и с жизненным уровнем советских людей, ростом рождаемости, длительностью жизни в СССР. Да и от всей коммунистической империи, считая страны Варшавского договора, осталась лишь малая часть управляемая из Москвы, чуть больше Великого Московского царства в начале правления царя Алексея Михайловича. Конечно, это естественный процесс: империи созидаются и гибнут в свой час, но правление Хрущева ни в чем не сделало этот процесс менее болезненным, более цивилизованным.
Но есть кое-что важное и достойное оставшееся после правления Хрущева. Конечно, освобождение (эпохой «позднего реабилитанса» — называли годы его правления) миллионов уцелевших заключенных из лагерей не было и не могло быть восстановлением справедливости. Человек случайно выжил на самой чудовищной каторге известной человечеству, потерял за эти годы семью, смысл жизни, и ему, искалеченному в любом случае видно это со стороны или таится внутри него, говорят — можешь считать себя свободным, ты был ни в чем не виноват. И твои расстрелянные или погибшие в лагере родители и родственники тоже, оказывается, ни в чем не виноваты. Но в том, что они погибли, тоже нет виноватых.
Конечно, это не восстановление справедливости, а милость людоеда. И все же, слава Богу, что она была и исходила она от Хрущева, а не от кого другого и без этой милости миллион уцелевших к тому времени людей в лагерях, ссылках, поселениях — тоже погибли бы. И об этом нельзя забывать.
Кое что получали люди и жившие в так называемой «большой зоне», то есть считавшиеся по советским меркам свободными. По инициативе сперва Маленкова, но и при Хрущеве изменилось полукаторжное сталинское законодательство: крестьяне смогли уезжать из деревни, рабочие смогли менять место работы — больше не были «прикреплены» к своим заводам. Конечно, Советский Союз не догнал и не перегнал Америку, но жизненный уровень несколько возрос, Хрущев все же пытался дать народу «масло вместо пушек», вся страна была застроена «хрущебами» – совсем дешевыми домами, но убогие квартиры в них все же были бесспорно лучше коммунальных квартир, в которых к тому же зачастую в одной комнате ютилось по нескольку семей. Эти очень серьезные, хотя, конечно, недостаточные перемены в жизни советских граждан понемногу и незаслуженно забываются, зато следствия удивительного расцвета культуры в годы правления Хрущева становятся все более заметными, вклад русской культуры этих лет в европейскую цивилизацию все более заметным и памятным.
Гениальный Варлам Шаламов напечатанным в Советском Союзе увидел лишь один мельчайший отрывок своей прозы – «Стланик» и три небольшие совершенно искалеченные цензурой книги стихов, где ни один цикл не был помещен полностью. В конце жизни после чудовищных лагерных сроков на Колыме он не только не получил минимальных условий для работы и остро необходимой ему медицинской помощи, но его заставили публично каяться за издание (без его ведома) небольшой книги рассказов по-немецки за рубежом, приставили к нему для контроля сотрудницу МВД Сиротинскую, чтобы его рукописи не попадали ни в самиздат, ни заграницу и в конце концов убили простудив при перевозке из полузакрытого дома для престарелых в совершенно закрытую лечебницу для психохроников. Но его «Колымские рассказы» в конце концов увидели свет, несмотря на разлитый в них неописуемый ужас, выпавший на долю миллионов русских людей издаются и переиздаются на всех языках. В русской литературе лишь Достоевский открыл подобно Шаламову что-то важное новое, доселе неизвестное в природе человека.
Впрочем, Данте, Шекспир, может быть Рабле тоже внесли в наше понимание самих себя не так уж мало.
Уже упомянутые препятствия в своей работе (к счастью, не такие как у Шаламова) встретили в своей работе, выросшие из хрущевской эпохи великие композиторы Альфред Шнитке и София Губайдуллина, повторять то, что уже написал о судьбах Сергея Параджанова и Андрея Тарковского я, конечно, не буду.
И все же это поразительное созвездие великих имен и в российской и мировой культуре неразрывно связано с эпохой с «оттепелью» Хрущева. И, конечно, является совершенно замечательным ему памятником.
И все же перечисляя плюсы и очевидные минусы политической и правовой атмосферы в годы правления Хрущева нельзя не выделить главное. Уже почти за сто лет начиная с ноября 1917 года одиннадцать лет правления Хрущева были единственными в истории Советского Союза и России, когда власть в России не принадлежала бы по разному называвшимся кровавым спецслужбам (ЧК-ГПК-НКВД-КГБ-ФСБ). И дело не только в том, что Ленин, Сталин, так же как Андропов и Путин сами были создателями и практическими руководителями спецслужб, но главное в том, что большинство несчастий, катастрофических и трагических решений принимавшихся за этот гибельный для России век объяснялись во многих случаях даже не жестокостью, властолюбием или корыстолюбием правящий структур, а их практическим неумением, неспособностью выстраивать в стране нормальные, разумные, гражданские отношения между властью и народом, различными частями сложного, многонационального, исстрадавшегося народа России. Хрущев был единственным, кто не всегда удачно, но безусловно последовательно лишал спецслужбы власти в стране и выстраивал в ней гражданские отношения. И это то, что является пусть до конца не реализованной, но величайшей его заслугой, что ставит его наравне, а может быть и выше величайших русских реформаторов и освободителей. Если у России и есть какое-то оптимистическое будущее, то оно на путях указанных и проложенных Никитой Сергеевичем Хрущевым.
И последнее размышление. Сын Хрущева Сергей Никитич мельком замечает, что Георгий Маленков мог бы пойти в реформах дальше Хрущева. Но без Хрущева. То есть Хрущев по своему характеру все переводил на себя, соперников во власти не терпел и не дал Маленкову осуществить его планы.
Как ни странно, я думаю, что Сергей Никитич недооценивает отца и переоценивает Маленкова. Во-первых, совсем без Хрущева Маленков бы работал в паре с Лаврентием Берией и, по-видимому, ни о каких либеральных переменах по существу речи бы не было. Амнистия бы ограничилась бериевской готовностью ненадолго выпустить уголовников, а миллион с лишним политзаключенных так бы и сгнили в лагерях (с добавкой новых по выбору Берии).
Но даже, если представить себе, что Хрущев отошел бы в сторону после казни Берии или хотя бы «путч» 1957 года увенчался успехом и развязал бы тем самым Маленкову руки, я не думаю, что он сделал бы больше, чем Хрущев, хотя, вероятно, меньше бы суетился и метался. И Маленков и его соратники по путчу были гораздо больше повязаны сталинскими (и личными) преступлениями, а это значит, что в гораздо меньшей степени, чем даже принимавший половинчатые решения Хрущев, были готовы свергать кумир Сталина, что сказалось бы на всей внутриполитической обстановке в стране. В высшей степени сомнительно, что Маленков свалив в 1957 году Хрущева, смог бы удалить Жукова, а это и впрямь грозило пусть и антисталинской, но военной диктатурой. Удаление от внешней политики Вячеслава Молотова, я думаю, тоже было бы нелегкой задачей. Жуков бы не дал до минимума сокращать расходы на оборону, способствовал бы превращению Советского Союза в сверхдержаву, а следовательно, для легкой промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства у Маленкова было бы совсем немного средств, а следовательно, невелики были бы и результаты. Молотов в своем жестком противостоянии капиталистическому миру и буржуазному влиянию, бесспорно был бы влиятельным противником растущей открытости Советского Союза, которую осуществлял Хрущев. А без нее не было бы того ощущения оттепели, культурного единства и родства со всем миром, которые переживала тогда российская интеллигенция, не было бы ни Московского кинофестиваля, ни конкурса им. Чайковского, Москва хотя бы ненадолго не стала бы одной из музыкальных и кинематографических столиц мира. Может быть, лишь Варлам Шаламов написал бы «Колымские рассказы», но и с ним обошлись бы еще более жестоко и быстро.
Подводя итоги я думаю, что при всех многочисленных недостатках и ошибках Хрущева, при его неумении завершить свои грандиозные реформы, именно его приход к власти после смерти Сталина был самой большой для народов Советского Союза удачей.
1Исторический архив, 1998, №3
2Н.С. Хрущев. Время, люди, власть (воспоминания). В 4 томах. Книга 2, часть 3.
39 марта в день рождения Молотова.
4Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М. 1993
5С. Миронин. Воюющие цифры. Журнал «Золотой Лев» № 131–132
6«Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия», (РОССПЭН, 1995 года)
7РГАНИ Ф.5. Оп.30. Д.90
8Хрущев С. Трилогия об отце. Пенсионер союзного значения.
9 Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг., Н.С.Хрущёв: «У Сталина были моменты просветления». Запись беседы с делегацией Итальянской компартии // Источник. 1994. № 2. С. 82-83
10«Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953-1982 гг.». Коллектив авторов, под редакцией В.А. Козлова и С.В. Мироненко. Ответственный составитель О.В. Эдельман при участии Э.Ю. Завадской. Москва, «Материк», 2005
11 И.С. Яжборовская, Н.Ю. Яблоков, В.С. Парсаданов «Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях».
12 Кроме стихотворения Анохина, с которым я был в одной камере в «Матросской тишине», все материалы из судебных дел, приведены в книге «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953-1982 гг.»
13Л. Млечин. «КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы».
14 Островский А. «Кто поставил Горбачева» – Черногаева Г. 50 лет назад советская армия готовилась атаковать Аляску // Коммерсант-daily. 1998. 24 января. С.8. Рожков Е. Рокоссовцы на Чукотке, или Тайна бухты Провидения.
15 Островский А. «Кто поставил Горбачева» – Пстыго И.И.: 1) На боевом курсе. М., 1989. С.156–169. 2) Труженики неба. М., 1994. С. 338–362.
16 Островский А. «Кто поставил Горбачева» – История 95-й истребительной авиационной дивизии // Щучин – город авиаторов (http://scucin-avia.narod.ru/units/95iad/95iad.htm)
17 Островский А. «Кто поставил Горбачева» – Остроумов H.H. Армада, которая не взлетела // Военно-исторический журнал. 1992. № 10. С. 39 – 40
18 А.Окороков «Секретные войны Советского союза»
19 Хрущев С.Н. Трилогия об отце. Рождение сверхдержавы.
20«Империя ГРУ». Книга 2.
21 Хлобустов О. «Крючков и судьба Советского Союза»
22 Н.А. Мухитдинов. Река времени (от Сталина до Горбачева). Воспоминания. м. «Русти-Рости», 1995 г.
23 Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы (Россия. ХХ век. Документы).
24Запись интервью Александра Архангельского, сделанного при подготовке цикла передач канала «Культура» «Отдел» ч. I-VI, любезно предоставленная автору.
25Борис Ямпольский. Из воспоминаний. Двадцатый век (Т. I, стр. 90, Лондон 1975 г.)
26 Юрий Дубинин. Дипломатическая быль. Записки посла во Франции.
«…должен пояснить, что если в институт я почти всегда ходил в лыжном байковом костюме, то в таком высоком месте, как ЦК комсомола, я появился в единственном настоящем костюме, сшитом мне родителями еще по случаю поступления в институт»
27 Ю.В. Аксютин. Кощей развитого социализма.
28«Вечерняя Москва». 15 апреля 1994 года «Испытание сталинщиной».
29 Речь на пленарном заседании совещания строителей 12 апреля 1958 года. Н.С. Хрущев «Два цвета времени». Документы из личного фонда Н.С. Хрущева, т.2 изд. Демократия, м. 2009 г.
30 Леонид Сумароков «Другая эпоха. Феномен М.А.Суслова (личность, идеология, власть)»
31 В. Лакшин «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» – «Двадцатый век» т. II, Лондон 1977 г.
32 Козлов В.А., Мироненко С.В., Эдельман О.В., Завадская Э.Ю. Крамола.
33 Леонид Млечин. «Железный Шурик».
34 Федор Бурлацкий. «Вожди и советники». Москва, изд. Политической литературы, 1990 г.
35 Анастас Микоян. «Так было».
Опубликовано на сайте: 12 февраля 2017, 16:59
Для полного понимания такой фигуры как Хрущев(и не только),подобные материалы – бесценны.
Спасибо!
13 февраля 2017, 11:49
Отличный анализ. Важно, что автор предлагая задуматься, вместе с ним, предлагает и иной ракурс рассмотрения, отличный от уже имеющихся и страдающих недосказанностью и недоосмысленностью. Спорные детали в тексте, конечно, имеются, но они не не портят основного содержания, а наоборот, делают его шире, заставляя задуматься.
Спасибо.
13 февраля 2017, 16:03
1. Почему ликвидация Бандеры была политической? Банедра был таким же борцом со злочынным тоталитарным режимом (обычным террористом) как и Усама бен Ладен, разве что поменьше калибром. Получил свое заслуженное. Убийцу другого такого “строителя нации” – Петлюры, оправдал вполне либеральный французский суд.
2. Хрущев не подрывал основы СССР, наоборот он возвращал его на путь построение коммунизма. СССР уничтожила сталинская номенклатура с которой Хрущев боролся. Если бы не гэбня, то сейчас Хрущев занимал примерно то же место в истории что и товарищ Дэн.
15 февраля 2017, 3:28
Силос дал возможно подняться колхозным фермам – это факт. Крестьяне, со своими мелкобуржуазными хозяйствами, не могли обеспечить те масштабы что были в колхозах. Под конец сов. власти сдать скотину на мясокомбинате было проблемой и машины там стояли до суток. Сейчас же, когда настал свободный рынок, фермы разрушены, поля засеяны экспортными культурами, а народ ест суфле из костной муки вместо мяса.
15 февраля 2017, 3:44
Слова из песни не выкинешь (http://www.stihi.ru/2013/12/03/7364)
Жил-был Никитушка сам ростиком с аршин,
Немного правил, но делов насовершил:
Ракеты в космос запустил,
Все степи хлебом засадил
И поднял наш Союз до облачных вершин.
Но в октябре его маленечко — того
И тут всю правду мы узнали про него:
Что он партнормы извратил,
Всех кукурузой закормил
И, в общем, кучу дел дурных наворотил.
Сложно комментировать большой материал, – Хрущев был очень противоречивой фигурой. Если сравнить списки – что он отменил после Сталина и что ввел впоследствии сам, – они в значительной мере совпадают. Вся его жизнь была борьбой за выживание и только на пенсии он обрел покой и относительную свободу.
Если дополнить по мелочам, то при Сталине у колхозников, кроме армии, была возможность уехать из села, – такую возможность предоставляла работа по вербовке, – заготовка торфа, стройка – это только где моя мать успела после войны поработать. Работа по вербовке при Брежневе превратилась в работу по лимиту.
Целина была странной кампанией. С одной стороны, в центральных районах была нехватка людей после войны, а с другой на селе была безработица в колхозах. Не знаю, как решалась проблема паспортов при переезде на Целину, – в колхозах людей с паспортами было мало. Паспорта и пенсии колхозники получили только при Брежневе, из нефтяного экспорта.
Не знаю, насколько серьезно наши генералы готовились к наступательной войне в Европе. Вряд ли они не понимали реальных перспектив этого дела при тотальном превосходстве армий НАТО в авиации. Средства ПВО против Суперкрепостей у нас появились где-то году к 1970-му, а против Б-52, может статься и до сих пор нет. Скорее подготовка к войне была способом пилить бюджет (по-русски говоря). U-2, если верить Пачепе (“Дезинформация”, я давал раньше на нее ссылку) сбили случайно, благодаря долгоиграющей разведоперации с вербовкой Ли Харви Освальда (того самого) и не ракетой.
Вероятно, реформы Хрущева, что либеральные, что контрлиберальные, следует рассматривать как способ аппаратной борьбы. А бороться за благо народа – таких дураков среди большевиков и в 1917 было мало, а в ЦК такие просто не проходили. Если бы Хрущева (или еще кого) интересовало благо народа, он бы распустил колхозы, как форму современного рабства.
22 февраля 2017, 15:23
Сергей иванович, расстрел в Новочеркасске вы считаете “более человечным” в сталинские кровожадные времена? Смешно..а точнее очень “кровь закипает”..Мне вот интересно , как и другим прочитатать о современом движении свободолюбимой мысли ..о реформах 90 годов, о фамилиях, о делах..их..Я помню времена хрущёва…хлеб с дыркой внутри, очереди за таким хлебом…о кукурузе даже не хочу говорить..оскома у всех..
25 февраля 2017, 21:54
Новое от Запольского: http://rusmonitor.com/obraz-kudrina-ehto-maska-kotoruyu-veroyatno-odenet-kreml.html
26 февраля 2017, 10:45
Виктор-1
Даже не понимаю, откуда Вы взяли, что я считаю расстрел в Новочеркасске “либеральным”. За свою долгую жизнь я столько писал об этом преступлении и был дружен с выжившим, потом убитым участником восстания.
2 марта 2017, 18:30
Александр Че.
Очень похоже, и это есть в моей книге, что Хрущев перед отставкой не только планировал говорить о разорении крестьянства в 30 году, но и делать из этого серьезные выводы.
2 марта 2017, 18:33
6. Виктор-1
Все познается в сравнении. Это не просто банальность, это точная характеристика того, как мозг функционирует. Черное черно не потому, что не излучает света, а потому, что излучает его намного меньше, чем белое, которое расположено рядом. Черные буквы на странице книги при солнечном освещении излучают в 10 раз больше света, чем белая бумага при комнатном. Такой вот физический факт. Если Вам кажется, что нет ничего бесчеловечнее расстрела, то в сравнении с тем, что во времена Ленина и Сталина происходило в подвалах ВЧК (при любых названиях), без всякого цинизма расстрел на площади можно рассматривать как акт гуманизма. Про рутинный конвейер НКВД читайте например А.Г.Теплякова, “Процедура”, (на сайте красноярского Мемориала):
http://www.memorial.krsk.ru/Articles/TeplyakovProcedura.PDF
Или доклад комиссии Шверника
http://perpetrator2004.narod.ru/Great_Terror.htm (первая строка в списке)
В сравнении террором при Сталине и Ленине времена Хрущева выглядят действительно, если не гуманными, то травоядными. Например, после войны, колхозники работали в поле за “чтоб не посадили”, при этом были обложены денежным налогом и натуральным оброком. Чтобы заплатить денежный налог надо было продать 35 кг масла в год, – но держать можно было только одну корову. Вторую отберут и посадят (хозяина, не корову). Можно было держать одного поросенка. Если режешь, – обязан сдать шкуру (не сдашь шкуру поросенка, – посадят). Надо было сдать 80 кг мяса со двора. Считай, – поросенка мало. 200 яиц, кормов от колхоза не получали, все от кур до людей были на подножном корму. Еще молоко – 200 литров в год (примерно один месяц доить корову на государство). Все плодовые деревья обложили денежным налогом, поэтому в деревнях все повырубили. Дрова и сено на зиму, – вози на себе, лошадей не то, чтобы не разрешали, но их кормить уже было не чем на частном подворье, лошади были только в колхозе. Хлеб пополам с лебедой, – это не образ, это часто единственная пища колхозного крестьянства в центральном Черноземье. Иногда мука к лебеде в хлебе была 1 к 3.
Так что на фоне Сталина, которого еще помнили, Хрущеву не трудно было выглядеть хорошо. Дал некоторые послабления колхозникам и рабочим. Остановил расстрельный конвейер (а иначе скоро расстреливать стало бы некого). За частушки про вождя перестали сажать.
В общем, дал больше свободы, чем было при Сталине, значит, время получилось более либеральным. Буквально и фактически.
10 марта 2017, 20:48
8. Sergey Grigoryants
Вполне допускаю. Ведь расселение из бараков и общежитий в отдельные квартиры не было вынужденным шагом. Это был откат от классической схемы коммунизма. Фактически, – ревизионизм. Благодаря Хрущеву декларируемый коммунизм приобретал все больше черт капитализма.
Про Целину спросил, – мать сказала, что оформлялось как вербовка, причем на Целину вербовали не только на селе, но и в городах. Давали паспорта. Собственно, паспорта приобрели какой-то смысл только при Хрущеве. При сталинском тотальном крепостничестве даже с паспортом податься особенно не куда было.
10 марта 2017, 21:05
Александру Че.. После вашего вывода ,что расстрел на площади В Новочеркасске при правлении Хрущёва можно считать актом гуманизма ….что то мне не хочется дальше дисскутировать в таких “гуманистических сравнениях”…Прощайте.
18 марта 2017, 18:23
12.Виктор-1
Сталинские методы Вам нравятся больше?
“Очевидец расстрелов бывший сотрудник НКВД Грузинской ССР Глонти на допросе в КГБ 10 июня 1954 года показал:
«Жуткие сцены разыгрывались непосредственно на месте расстрелов. Кримян, Хазан, Савицкий, Парамонов, Алсаян, Кобулов… как цепные псы набрасывались на совершенно беспомощных, связанных веревками людей, и нещадно избивали их рукоятками от пистолетов» (Архив ГВП, арх[ивно]-след[ственное] д. № 0061,. т. 43, л. 98).
…
В НКВД Туркменской ССР на допросах были убиты 16 арестованных. О причинах смерти составлялись фиктивные документы. Трупы убитых выносились из здания НКВД в ящиках из-под оружия. Если труп оказывался длиннее ящика, то его «укорачивали» путем перелома ног (Материалы проверки о нарушениях законности, т. 10, л. 6).
В УНКВД Житомирской области осужденная во внесудебном порядке невиновная 67-летняя Бронштейн-Курило была убита в гараже лопатой.
Работники Белозерского райотдела НКВД Вологодской области Анисимов, Воробьев, Овчинников, Антипин и другие в декабре 1937 года вывезли в поле 55 человек, осужденных «тройкой» к расстрелу, и порубили их топорами. В том же райотделе поленьями убили 70-летнюю старуху и 46-летнюю женщину-инвалида (Материалы проверки о нарушениях законности, т. 10, л. 8, 61).”
Из доклада Шверника. Ссылку я давал.
Не хотите читать, – не смею Вас принуждать.
23 марта 2017, 16:30
Сергей иванович. да ,Ваш труд о хрущёве возможно найдёт след мягкости в истории России..да ,до его о смертности населения вроде и кощунственно говорить, пытался, не получилось…это историкам будущего об этом рассказывать…Ну Вы меня извините, как можно правителя , находясь одним из участников сталинской машины убийств, очеловечественивать? Это, как сказать, что гейендрих был человечнее гимлерра…Может быть я не прав, в таких вопросах жизни страны….Скажу так–мёртвые прошения не просят..
31 марта 2017, 14:22
Тем, кто мечтает о чистоте ленинских норм советую ознакомиться с ними в первозданной чистоте.
Один из самых ранних материалов:
http://legitimist.ru/lib/history/055_s_melgunov_krasnyj_terror_v_rossii.pdf
Так что, Хрущев был первым ревизионистом, возглавлявшим партию и государство.
15 апреля 2017, 6:40
http://www.svoboda.org/a/28432252.html
Украина рассекречивает архивы.
Уже можно не гадать о роли Н.Хрущева в коллективизации и Голодоморе, а просто заказать копию документа.
Если верить статье на РС информация выдается без ограничений.
17 апреля 2017, 17:50