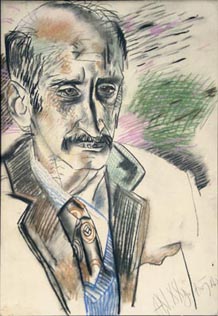
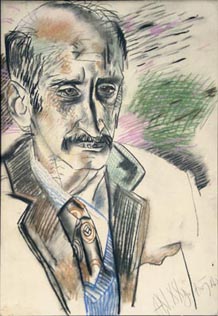
Тем временем в Советском Союзе Шелепиным и Семичастным (параллельно с борьбой в Кремле) с помощью «процесса Синявского и Даниэля» успешно создано во второй половине шестидесятых годов подлинное некоммунистическое, антисталинское общественное движение, уже нашедшее выходы на Запад, и с ним приходится серьезно считаться сменившему Хрущёва советскому руководству, поскольку прямо или косвенно в нем участвует наиболее влиятельная и интеллектуально значимая часть советской интеллигенции.
Чуть позднее «дела Синявского и Даниэля» в значительной степени усилиями последнего крупного уцелевшего коминтерновца Эрнста Генри выдвигается в качестве общественной фигуры мирового масштаба академик Андрей Сахаров. Его первые статьи, частью написанные вместе с Эрнстом Генри, тут же приобрели всеобщую известность и посвящены конвергенции, растущему единству социалистического и капиталистического мира и уж во всяком случае являются остро антивоенными.
Впрочем, и делу Синявского и началу общественной деятельности Сахарова будет посвящены отдельные главы, пока же обратимся к важнейшим зарубежным событиям, у которых есть прямые связи с событиями в Кремле. Конечно, в первую очередь речь идет о парижском восстание весной 1968 года, подавленном советскими маршалами и французской компартией.
Впрочем, так же как рассказ о осквернении еврейских кладбищ и синагог в Западной Германии приходилось начинать с синагоги в Малаховке под Москвой, так же поразительная история парижского восстания началась, по-видимому, не в шестьдесят восьмом году, а много раньше в 60-61 годах на площади Маяковского в Москве.
Очень трудно из вполне самостоятельного протестного движения французской молодежи и подогреваемого, конечно, из Москвы и восходящего к работе Коминтерна в 20-30 годы левой ориентации интеллектуалов и художников (Арагона, Элюара, Пикассо и др.) и новыми левыми философами (Сартром, Маркузе), вычленить тот вклад, который в соответствии с «планом Шелепина» внес в это движение хитроумный генерал Агаянц.
Но если писать о репетиции Агаянца в Москве, то в отличие от истории в Малаховке первоначально на площади Маяковского («Маяке») никакой провокации КГБ не было. Маяковский был единственным советским поэтом, соединившим официальное признание за «Стихи о советском паспорте», поэму «Владимир Ильич Ленин» и другие агитки, подкрепленные резолюцией Сталина на письме Лили Брик, что он «лучший и талантливейший поэт нашей эпохи» с действительно бесспорным талантом, столь актуальной в те годы для молодежи «революционной романтикой» и современной поэтической формой. Поэтому было вполне естественным, что после сооружения ему памятника в центре города сперва прочли свои мало отличавшиеся друг от друга стихи и речи советские чиновники из Союза писателей, но потом и какие-то вполне непризнанные люди разных возрастов начали читать у памятника свои стихи, стихи Маяковского, изредка Есенина, Евтушенко, Слуцкого.
Нельзя сказать, что советские власти во второй половине 50-х годов не интересовались молодыми поэтами. Уже упоминалось, что еще за год до открытия памятника с помощью аккуратно внедренного провокатора был арестован поэт Леонид Чертков за организацию литературной группы «Мезонин», будущий лидер «Маяка» Юрий Галансков был с ним дружен, но арестован тогда не был. «Маяк», где стали собираться по субботам молодые поэты был, правда, для властей любопытнее и привлекательнее чем более интеллектуальная группа Черткова уже тем, что сперва в значительной степени собирал и впрямь молодых людей, влюбленных в романтику революции, а не аполитичных или с прямым интересом к литературе русской эмиграции как в «Мезонине» и поэтому давал замечательные возможности для комсомольско-официозной демагогии. Правда, сперва, в 1958 году, власти решили, что им эта самодеятельность ни к чему. Игорю Волгину, читавшему там свои детско-комсомольские стихи посоветовали в московском комитете комсомола это больше не делать и он послушно больше на «Маяк» не ходил. Но кто-то все же изредка к памятнику приходил. «Маяк» то совершенно замирал, то слегка оживал, но года через два положение, вероятно, вполне естественным образом изменилось. Страна жила стихами в эти странные годы хрущевской оттепели. Евтушенко, Вознесенский и Рождественский проводили свои вечера не только в Доме литераторов и Политехническом музее, но уже на стадионах в Москве, да и в других городах. Их, выходившие стотысячными тиражами, книги найти в магазинах было невозможно, журнал «Юность» со своими миллионными тиражами центральным и самым крупным своим отделом сделал отдел поэзии. «Самиздат» наводнял страну перепечатками все еще не издававшихся стихов Мандельштама, Гумилева, Цветаевой. Зина Эскина поразительно точно написала об этом:
– Наше поколение жило стихами, стихами вырабатывалось мировоззрение, растились души, стихами мы находили друг друга, стихами объяснялись в любви.
В этом поразительном, не имевшем аналога в русской истории, мире не могли не появиться сотни молодых поэтов, очень разной степени дарования, но безмерной степени искренности и, главное, чьи стихи к тому же часто не были рифмованной публицистикой и потому не могли быть официально признаны и опубликованы. Евтушенко тут же стал не только не признаваемым, но просто презираемым в этой среде, в особенности после того, как на встрече писателей и деятелей искусства с Хрущевым (правда, это уже было начало 1962 года) обругал и Есенина-Вольпина, «гнусные» книжки которого ему якобы подсовывали под дверь за границей, и «маяковца» Александра Гинзбурга, уже осужденного (что было особенно подло), собиравшего один за другим сборники «Синтаксис». Отношение к Вознесенскому на «Маяке» было не лучше: его поэма о Ленине («Лонжюмо») еще не была написана, но обоих кумиров того времени воспринимали скорее как политических игроков, чем как поэтов. А между тем, если бы эти дети на «Маяке» были хоть чуть постарше и осторожнее, откровенность воровской романтики ранних стихов Евтушенко (к примеру – «Золотые фиксы»), а также бандитские песни Высоцкого:
Что же ты, зараза, бровь себе побрила,
Ну для чего надела, синий свой берет?
И куда ты, стерва, лыжи навострила -
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!
Знаешь ты, что я души в тебе не чаю,
Для тебя готов я днем и ночью воровать, -
Но в последне время чтой-то замечаю,
Что ты мне стала слишком часто изменять.
Если это Колька или даже Славка -
Супротив товарищей не стану возражать,
Но если это Витька с Первой Перьяславки -
Я ж тебе ноги обломаю, в бога душу мать!
Рыжая шалава, от тебя не скрою:
Если ты и дальше будешь свой берет носить -
Я тебя не трону, а душе зарою
И прикажу в залить цементом, чтобы не разрыть.
А настанет лето – ты еще вернешься,
Ну, а я себе такую бабу отхвачу,
Что тогда ты, стерва, от зависти загнешься,
Скажешь мне: “Прости!” – а я плевать не захочу!
не только многое объяснили бы им в этих поэтах и кумирах публики (Высоцкий — муж члена ЦК Французской компартии Марины Влади, по откровениям Михаила Крыжановского, полковника КГБ, был их «отличным штыком»), но спасло бы Гинзбурга, Галанскова, да и всех их друзей от перепечатки сочинений и самоотверженной, многим стоившей жизни защиты воришки Абрама Терца — провокатора КГБ Андрея Синявского. Впрочем, к этой советской близости, «революционной романтики» воровского мира и мира ЧК, НКВД-КГБ мы ещё вернёмся. На «Маяке» царил Юрий Галансков, чьи стихи собравшейся у памятника иногда даже толпе читали вслух уже и незнакомые ему люди, а, главное, мера его искренности и самопожертвования, неприятия мира лицемерия и насилия делала просто невозможным после его стихов чтение и советской и около советской поэзии. Романтика Октябрьской революции заметно уступала романтике же освобождения от насилия и навязываемых социальных догм. В результате и Окуджава не был для «Маяка» своим, как в Питере (так все называли Ленинград) для Бродского, Кушнера, Наймана не был своим Городницкий с его – «Я хотел бы погибнуть в двадцатом году». Александр Гинзбург не только это сразу же ощутил, но и сделал совершенно естественный вывод — собрал и начал размножать в «самиздате» сначала первый номер своего независимого журнала поэзии «новой волны» «Синтаксис», потом — второй. Оба они были перепечатаны в Мюнхене в журнале НТС – «Грани». Во время подготовки третьего номера (из стихов ленинградских поэтов) Гинзбург был арестован и получил два года лагерей. Но никто из авторов журнала, хотя по преимуществу они не скрывались под псевдонимами арестован не был. Среди них были такие серьёзные поэты, как Сергей Чудаков, долгие годы принудительно помещаемый в советские психиатрические тюрьмы, в дальнейшем соавтор ряда статей с Андреем Тарковским, значительная часть стихов которого была спасена Гинзбургом публикацией в сборнике «Синтаксис». В Советский Союз — в прокат, а не на редкие «недели» французского или итальянского кино, и, соответственно, не только в коммерческие показы в Союзах кинематографистов (естественно, полузакрытые) прорывается (покупки иностранных фильмов в СССР нет) один из не самых важных, но всё же фильм «Новой волны» — «Чайки умирают в гавани» бельгийцев Рика Кеперса, Иво Михельса, Роланда Верхаверта. Это не самый знаменитый и далеко не самый лучший фильм «Новой волны», но на «маяковцев», на всю молодёжь, ждущую обновления в разных городах Советского Союза (я помню это в Риге) фильм производит ошеломляющее впечатление – своим совсем иным кинематографическим языком, как и «Пепел и алмаз» Вайды, своим размышлением о судьбах молодых людей.
На фильм ходят по пять раз подряд, во всех крупных городах появляется мода на застёгнутые доверху плащи с поднятым воротником, как у героя фильма.
И дальше почти два года никаких арестов не было, хотя на «Маяке» появилось и распространялись около десятка новых самиздатских журналов («Феникс», «Коктейль», «Альянс», «Бумеранг», «Фонарь», «Сирена», «Сфинксы» и, вероятно, какие-то еще теперь забытые). Любопытно, что в Ленинграде по прямому соглашению с КГБ Борис Иванов начал издавать литературный (самиздатский, конечно) журнал «Часы». В Москве о таких соглашениях речи не было, но именно те два года после ареста Гинзбурга и до окончательного разгона «Маяка», ареста Владимира Осипова, Эдуарда Кузнецова и Ильи Бокштейна по обвинению в терроризме и были временем наиболее напряженной «исследовательский», так же как в Малаховке, работы КГБ.
Хотя об этой работе нет прямых свидетельств, исходящих из КГБ, но, к счастью, есть замечательная книга Людмилы Поликовской «Мы предчувствие, предтеча…», где собраны десятки интервью активных участников «Маяка» в эти годы. Ниже почти все прямые и косвенные цитаты взяты без специальных упоминаний именно из этой книги, хотя, конечно, она не дает достаточно четкого понимания всего происходившего, просто потому, что его не было ни у опрашиваемых, ни тогда у самого интервьюера.
Теперь уже к очень многочисленным (несколько сот человек, по субботам и воскресеньям) «маяковцам» прибавились замечательно читавшие стихи молодые актеры (среди них Всеволод Абдулов), начинающие общественные деятели Владимир Буковский, Владимир Осипов, Эдуард Кузнецов и все больше сочувствующих, да к тому же случайных прохожих и зрителей кинотеатра «Москва», театров «Современник», Театр сатиры и Театр имени Моссовета, с молодежной студией Завадского, расположенных там же. Существенным, однако, по воспоминаниям Елены Заславской было и то, что «кругом сновали какие-то серые личности, которых я, с моим жизненным опытом легко отличала… Поначалу они ни во что не вмешивались — только шныряли в толпе». «В толпе было множество кагэбэшников», – вспоминал Аполлон Шухт. «Какие-то странные, малоразговорчивые темные личности», – встречаем мы в другом его интервью. Алиса Гидасина, которая в 1960 году была свидетелем по делу Гинзбурга, позже встречала на площади Маяковского молодого следователя по его делу. Но аресты в то время еще не были целью.
— Как я теперь понимаю в КГБ нас всех хорошо знали и если бы было нужно, легко могли бы достать каждого», — рассказывает она же.
Пока ещё проблема была не в том, что «серые личности» хорошо знали авторов.
В этот начальный период задача была одна: понять, что же это такое — большое скопление молодежи и как его можно использовать. Это были почти дети — школьники старших классов, студенты первых курсов. Очень мирно и романтично настроенные. Но и в их «революционной романтике» КГБ заинтересовало первое слово, возможность сделать юношескую романтику революционной — но в своём понимании и своих интересах. Уже на этом этапе их безропотно слушают не только следователи КГБ, но и приходящие на площадь довольно высокие комсомольско-партийные чины, к примеру, секретарь по пропаганде и агитации московского комитета ВЛКСМ Харламов и первый секретарь горкома. При них кто-то с памятника Маяковскому выкрикивает парафраз на известное стихотворения Межирова «Коммунисты — вперед». Только у юного поэта коммунисты устремляются вперед за машинами, квартирами, дачами. Харламов молча слушает, не зовет для наведения порядка оперативный отряд, который находится тут же на «Маяке».
Впрочем, иногда, но уже попозже, поэтов и не поэтов все же с площади забирают, или приглашают в горком комсомола или в комнату милиции, где их иногда грубо запугивают. Но бывает, с ними подолгу с интересом беседуют какие-то люди в штатском, что-то предлагают — какие-то клубы, где поэты могли бы собираться, выслушивают стихотворения.
Потом контакты становятся более близкими. «Типы» появляются в домах у поэтов, в квартирах, где они собираются. Аполлон Шухт вспоминает:
– На один из семинаров мы пришли в чей-то дом, сели, поговорили, а когда стали расходиться, выяснилось, что одного из присутствующих не знает никто: ни хозяин, ни кто-либо из гостей.
Впрочем, ему же, приглашенному в горком комсомола показали фотографии картин Кропивницкого из выставки, которую прошла в его собственной комнате.
Но это уже было время, когда начались научные семинары (часто за городом, один из них вел Григорий Померанц), серьезные выставки молодых художников, «маяковцам» даже предложили сделать свой театр или приспособить для себя клуб им. Горбунова. А параллельно просили написать, что они думают, например, о комсомоле. Буковский, который в то время (по его рассказу) дневал и ночевал в райкоме комсомола («присутствуя чуть ли не на всех заседаниях») одновременно безуспешно пытается получить в свое распоряжение типографию и пишет большой текст о демократизации комсомола, в хранении которого, как антисоветского будет вскоре обвинен Эдуард Кузнецов, но не сам Буковский. И это тоже очень интересно: для КГБ любой творческий анализ работы с молодежью особенно любопытен, создает новые перспективы и потому посадить за распространение аналитической записки, конечно, можно, но сам ее автор еще может пригодиться. Не пригодился.
А пока Буковскому кажется, что из горкома комсомола, для которого он пишет, в КГБ ничто не уходит, хотя тут же на эти же темы с ним беседует капитан КГБ. Всеволода Абдулова «однажды — редкий случай — привезли (с друзьями — С.Г.) на Малую Лубянку и один полковник начал … дико орать».
— Я сказал, — продолжает Абдулов, — вы хотели с нами переговорить — мы готовы. Но пока вы не уберете этого типа, никакого разговора не будет.
И они ему сразу же — «Выйди!».
А нам: «Не обращайте внимания это сталинист, пережиток» — обругали его.
К сожалению, Абдулов ничего не рассказал о сути их разговора (а может быть, Поликовская не поинтересовалась) с теми высокими чинами КГБ в штатском, для которых полковник — второстепенный подчиненный. Еще более поразительным, хотя это единственное свидетельство того, что в игру с «Маяком» вступает лично Шелепин — казалось бы, что ему — он уже не председатель КГБ и не секретарь ЦК ВКСМ, но зато секретарь ЦК КПСС, первый вице-премьер правительства, а главное – второй человек в стране после Хрущева, хотя значения созданного под него Комитета партийного контроля ещё почти не понимали. И тем не менее становится ясно, что именно он руководит всеми этими «тренировками», столь же мало содержательным оказывается рассказ Леонида Прихожана — члена одного из комсомольских оперативных отрядов, отправленных наблюдать за «Маяком». Но он подружился с Буковским и его приятелями и в конце концов ушел из оперотряда. Сперва Прихожан рассказывает, как использовалось дистанционное прослушивание для записи их разговоров на скамеечках – всё же серьёзное внимание к детским разговорам. Но под конец:
– После одной из последних читок я имел удовольствие общаться лично с Александром Николаевичем Шелепиным. На этот раз нас «брали» профессиональные ребята, комитетчики, очень ловко забрасывали в машину — ни у кого и царапины не было. Привезли в какое-то помещение на Брестской улице, вызывали по одному к какому-то дяде со значком делегата XXII съезда — это и был Шелепин.
… Я сперва завел свою бодягу: почему нельзя, ничего плохого не делаем… Потом мне передали его отзыв: «Удивительно мерзостная личность» — ему сообщили, что я бывший член городского отряда. То есть с точки зрения Шелепина с Прихожаном можно было бы поговорить о чем-то серьезном и доверительном. Но не получилось. Прихожан совершенно не понимал, о каких серьёзных для КГБ и крупных ставках и играх на «Маяке» идет речь. К сожалению, он не назвал, кого еще привезли для собеседования с Шелепиным, а поэтому Поликовская не взяла у них интервью, не придав такому «пустяку» значения.
Это, действительно, были последние читки на «Маяке». Для сотрудников КГБ давно уже перестали быть интересны их всевозможные собрания, семинары, встречи в кафе, в подвале МГУ, попытка создать поэтическое общество (Шухт) и юношеские, хотя иногда очень решительные, стихи, к примеру Аполлона Шухта:
Бей
Брешь
Рушь
Режь
К черту
Легкие лодки надежд
Прочь ночь
День
Двинь
Снова
Рабочий
Рычач
Рви
Нет! Страх
Да! Страсть
Нам нужна
Своя власть
Конечно, все эти дети мечтали о своей честной и искренней власти, но, отвергая современную власть, с омерзением относясь к сталинскому прошлому, они плохо понимали, о чем и о ком сегодня говорят и поют, а главное, с кем имеют дело. Да и как все это было понять очень молодым (к тому же восторженным, живущим стихами) юношам и девушкам, с раннего детства (как и их родители) воспитанным на изощренной лжи, создаваемой гораздо более образованными, иногда просто талантливыми людьми, большей частью совершенно циничными и заботящимися только о собственном выживании, и другими, живущими за счет собственных (иногда таких же юношеских, но в начале 20-х годов очень отдаленных от 38 года, так же, как 38 был непонятен в 61-м) хорошо оплаченных иллюзий. Характерный пример — Михаил Светлов, со своей знаменитой уже полвека «Гренадой»:
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Были эти юные «маяковцы» (и уже их родители) совершенно изолированы от мира, в действительности, а не на словах, выстроенного на естественных человеческих чувствах, — конечно, не идеального, но всё же более далёкого от ада. Это была бесчеловечная, постоянно используемая в Советском Союзе (и в 20-е годы и в 30-е, и во время войны — чего стоит история одной Зои Космодемьянской, и опять в 60-е годы) спекуляция на доверчивости русской молодежи (ни Буковский, ни Галансков не собирались сотрудничать с реальными ЦК ВЛКСМ и КГБ, Александр Гинзбург не так уж был запуган новым арестом в 1964 году, когда писал покаянную статью, — они поверили, что у власти кроме цинизма есть хоть какая-то часть правды). Бывали просто символы этого непонимания «маяковцами» окружающего мира. Одним из таких символов был, конечно, поэт Павел Коган, все его творчество с такой знакомой всем наизусть и любимой «Бригантиной», а с другой стороны – совершенно неизвестная для «маяковцев» его реальная биография.
Апполон Шухт процитировал мне свой парафраз:
– Я с детства не любил овал,
Но за него голосовал.
– Декларации, которая была центральной в сознании молодежи того времени из знаменитого стихотворения погибшего на войне Павла Когана:
– Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.
Как громогласное заявление о юношеской неуступчивости, честности, своего пути в жизни.
И тем не менее куда этой «формуле жизни» было до популярности «Бригантины, поднимавшей паруса» того же Павла Когана. Ее пели все от 12 до 40 лет, во всем Советском Союзе многие десятилетия. Клубы «Бригантина» (даже сеть клубов) есть до сих пор в Москве, а сколько их было тогда — не перечесть.
Мы пьем за яростных, за непокорных,
За презревших грошовый уют,
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта гимн морям поют.
И Шухт, и Поляковская, и даже более молодой Михаил Айзенберг говорили мне о том, какую роль в их жизни играла «Бригантина», каким она была внутренним переживанием целого поколения русской молодежи. Да и я сам, тогда уже внешне академический, писавший об эмиграции и начале века – Ремизове и Белом, если попадал ночью в компанию однокурсников в университете, конечно, подпевал «Бригантину», как пели ее не только мои соседи, но и все и всюду (только Кагановский считает, что для Галанскова эта была совсем чуждая романтика, но другие с ним не согласны).
Думаю, что в лагере Гинзбург и Галансков не пели «Бригантину», но лет в 17, уверен, пели.
Отступление о Павле Когане и о том, что в России не заботятся об истории и не умеют учиться на ошибках
Однако Павел Коган был последним провокатором, внедренным в общественное движение 30-х годов (с войной стало не до того, а с начала 60-х годов, «плана Шелепина» и работы Агаянца наступило время новых провокаторов, нового периода «игр» с общественным движением в СССР – с использованием опыта НКВД и Коминтерна) и постоянным «источником» НКВД. Коган посадил, а по мнению Павла Улитина — и довел до расстрела несколько групп его друзей1.
Первой из них (из известных) была группа серьёзных физиков: Лев Ландау, Моисей Корец и Юрий Румер. В биографии Кореца читаем:
«В апреле 1938 г. Корец вместе с Ландау пишет листовку, призывающую к свержению сталинского режима. Корец передает её Павлу Когану, который от имени группы студентов ИФЛИ взял на себя распространение листовки по почте перед первомайскими праздниками. 27 апреля 1938 года Корец, Ландау и Румер, сотрудник Ландау по московскому Институту физических проблем, были арестованы. Во время следствия Корец «сидел в Лефортовской тюрьме, подвергался избиениям»2.
Из показаний Льва Ландау (по книге Горелика «Советская жизнь Ландау):
«Павел Коган рассказал Корецу о существовании группы студентов Московского института философии, литературы и истории, готовой к действиям. Корец вместе с Ландау составили текст листовки, которую решено было размножить на гектографе и разослать по адресам из справочника «Вся Москва». Текст листовки у Кореца взял 23 апреля Коган для её размножения и распространения. 27 апреля Корец, Ландау и Румер были арестованы».
(То есть Коган был не только осведомителем, но ещё и провокатором – С. Г.)
В материалах следствия имеется агентурное донесение от 19 апреля 1938 года:
«КОРЕЦ у себя на квартире представил источника двум лицам, назвавшим себя ЛАНДАУ и РУМЕР. Источник был представлен как вновь привлеченный КОРЕЦОМ участник организации. Из бесед КОРЕЦА с источником ясно, что ЛАНДАУ и РУМЕР полностью посвящены в проводимую подготовку к выпуску антисоветских листовок».3
«Был и донос от 5 марта, содержащий высказывания Ландау и Румера, в которых осуждалось руководство страны».4
«По мнению Кореца, Коган был провокатором в этой истории и действовал по заданию НКВД».5
«Лишь этим можно объяснить, почему он не был арестован, а рукописный экземпляр листовки оказался в руках следствия».6
Листовка, переданная Павлом Коганом (но заметим, что он доносил на Ландау и Румера еще до всякой листовки) тоже сохранилась в деле:
«Пролетарии всех стран соединяйтесь.
Товарищи!
Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать когда придет его черед. Хозяйство разваливается. Надвигается голод.
Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот. Социализм остался только на страницах окончательно … газет. В своей бешеной … к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма.
Единственный выход для рабочего класса и всех трудящихся нашей страны — это решительная борьба против сталинского и гитлеровского фашизма — борьба за социализм.
Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны только избивать беззащитных заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах.
Товарищи! Вступайте в Антифашистскую Рабочую Партию, налаживайте связь с ее Московским Комитетом. Организуйте на предприятиях группы А.Р.П. Налаживайте подпольную технику. Агитацией и пропагандой подготавливайте массовое движение за социализм.
Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности. Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику.
Да здравствует 1-ое мая — день борьбы за социализм!
Московский Комитет.
Антифашисткой Рабочей Партии».
Однако, не зря Павел Коган рассказывает Корецу о группе студентов Московского института философии, литературы и истории, где сам и учится. В декабре 1938 года арестованы и они (какой Коган ударник, многостаночник).
Если Ландау, Румер и Корец создали из трех человек «Антифашистскую рабочую партию», то в ИФЛИ Коган разоблачил «Ленинскую народную партию» уже из четырех человек. Значение и опасность ее так велики, что Берия именно с нее начинает свое «спецобращение» Сталину, заметим — в школах Москвы и Ленинграда 13 детских «организаций»:
“Документ №53
Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину о ликвидации в школах Москвы и Ленинграда “антисоветских” групп
07.06.1939
№ 1973/б
Сов. секретно
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. С Т А Л И Н У
*Органами НКВД СССР среди студентов отдельных вузов и учеников старших классов средних школ Москвы, Ленинграда, Киева, Иванова, Саратова и других городов Союза ССР вскрыт и частью ликвидирован ряд антисоветских групп*.
Участники антисоветских формирований среди молодежи, как правило, ставят своей задачей активную борьбу против Советской власти, обсуждают планы террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, изготовляют и распространяют антисоветские листовки и лозунги, призывающие к свержению соответствующего строя в СССР.
Так, например:
1. В декабре 1938 г. НКВД СССР была ликвидирована террористическая группа студентов Московского Историко-философско-литературного института в составе: Шатилова И.М. — 1915 года рождения, исключенного из ВЛКСМ; Улитина П.П. — 1918 года рождения, беспартийного; Сухова Н.П. — 1918 года рождения, беспартийного Мазура — 1917 года рождения, члена ВЛКСМ.
Группа поставила себе задачей организацию «Ленинской народной партии» в целях объединения в ее рядах всех недовольных Соввластью и ВКП(б), подготовки вооруженного восстания и террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советской власти.
Участники группы вели активную антисоветскую агитацию среди студенчества, разрабатывали «Программу ленинской народной партии» и проводили вербовочные работы по расширению организации.
…
Отмечается, что за последнее время среди антисоветски настроенной молодежи появляется тенденция к созданию нелегальных кружков с привлечением рабочей молодежи для «изучения» классиков марксизма в целях их критики с антисоветской позиции и попытки ревизовать основы марксизма.
НКВД СССР даны указания об усилении агентурно-оперативной работы среди молодежи и в первую очередь среди репрессированных врагов народа.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 206. Л. 159—168. Подлинник. Машинопись.
На первом листе имеется резолюция: «Т-щу Берия. Предложения см. в тексте. Ст.»; помета: «От т. Берия».
На полях имеются резолюции Сталина:
*—* «Этих всех арестовать и выслать в разные лагеря».
**—** «Арестовать, выслать в раз[ные] места».
***—*** «Ар[естовать], выслать».”.
Для сравнения доклад Семичастного Брежневу в январе 1967 года:
«…нарушающих общественный порядок, арестованы и привлечены к уголовной ответственности: Гинзбург А.И., 1936 года рождения; рабочие Литературного музея Галансков Ю.Т., 1939 года рождения и Добровольский А.А., 1938 года рождения; лаборантка МГУ Лашкова В.И., 1944 года рождения; техник Института по проектированию предприятий цветной металлургии Радзиевский П.А., 1947 года рождения; Кушев Е.И., 1947 года рождения, без определенных занятий, член ВЛКСМ; шофер Хаустов В.А., 1938 года рождения, Буковский В.К. , 1942 года рождения, и Делоне В.Н. , 1947 года рождения, оба без определенных занятий; и преподаватель средней школы Габай И.Я., 1935 года рождения. Следует отметить, что некоторые из этих лиц страдают психическими заболеваниями».7
Дальше находим рассказы о Когане Павла Улитина из книги «Хабаровский резидент»:
«Он был мой друг …, а потом друг моих друзей, которых он хотел подвести под расстрел…».
И дальше в диалоге с И.М. Шатиловым (из той же «Ленинской народной партии»):
«ш – Перед нами он выдал другую группу, и всех расстреляли. Я тоже ожидал расстрела.
у – Я тоже.
Обо всем этом впервые рассказал такой Якубович, тогдашний начальник Управления НКВД по Москве и Московской области. Это он арестовывал Блюхера и Кальнина. Он появился в тюремной камере через год после этих расстрелов».
Идет ли речь о Льве Ландау, Кореце и Румере, которых арестовали по доносам Павла Когана, но все же не расстреляли (о чем Шатилов и Улитин могли не знать) или Павел Коган внедрился в еще одну столь же страшную группу и их всех, действительно, расстреляли, из этих текстов понять нельзя. Впрочем, и семи человек (двух партий) вполне достаточно.
«Почему в квартире поэта Когана на Ленинградском шоссе мы видели голубую фуражку НКВД? А вся квартира оплачивалась НКВД. Дядя жены был работником НКВД. А следователь Рацкис, который вел дело группы Шатилова, Мазура, Сухова, контрреволюционной организации “Ленинская народная партия” и слежку в ИФЛИ – сначала предполагался и планировался арест в гостинице “Москва”, но потом решили последить еще месяц – был приятелем поэта Когана. Через него он устроил себе две командировки в лагеря Карельской области и в район Архангельска с той же специальной целью. Ситуация Азефа окончательно прояснилась» (но Коган не был одним из руководителей «партии», как Азеф, а сами ее члены не были террористами — Улитин не точен в аналогиях — С.Г.).
Мертвые сраму не имут, но смердят страшно»8.
Зато более новые аналогии и для Улитина, у которого, как и у его друга в 30-е годы, был обыск и были изъяты все рукописи, и для юных и наивных «маяковцев» бесспорно были.
Алла Гидасина, которая в 1960 году была свидетелем по делу Гинзбурга, в той же книге Поликовской вспоминает, что встречала позже на площади Маяковского молодого следователя по его делу. Вероятно, у следователя Рациса — приятеля поэта Когана, что вел дело Улитина, Шатилова, Мазура, Сухова, были свои друзья в ИФЛИ, как у следователя Гинзбурга – друзья на «Маяке», да и само дело 1938 года так похоже на дела 60-х годов.
«Никто плохо не думает о контрреволюционной антисталинской организации под названием “Ленинская народная партия”. Все вспоминают с удовольствием. А хотя бы потому, что целью было возвратиться к ленинским принципам развития мировой революции» – пишет Улитин.
И все же, если Евгений Винокуров не путает даты, похоже, что в биографии Павла Когана доносы не только на две «партии» и не только провокаторские «командировки» в лагеря. Андрей Сергеев в книге «Отпiвиs» вспоминает реплику Винокурова в 1977 году:
«Павел Коган, – из него сейчас героя делают, – о тридцать седьмом годе написал:
Мы забирали жен себе
И к стенке ставили мужей. -
Садист!»
(И с такой идиллической «Бригантиной» — С. Г.)
Здесь, кроме чудовищного в своем кровавом профессионализме смысла, любопытна еще и дата — 1937 год, то есть до обеих «партий». И она странным образом сочетается с еще одной цитатой из Улитина:
« В московских интеллектуальных кругах уже давно сложилось убеждение что поэт Коган – это второй Павлик Морозов. В каких это кругах? – настороженно спрашивает хабаровский резидент. Следует неопределенное пояснение.
ш – Ты встречался с женой Павла Когана?
у – У него их было три, и ни с одной я не встречался».
Опять-таки о доносах на отца Павла Когана мы ничего не знаем, но вот совпадение обилия жен с двустишием, откровенность которого сорок лет не мог забыть Винокуров, наводит на новые сомнения.
Впрочем, самым важным было и то, что «интеллектуальные круги» понимавшие, кем на самом деле был Павел Коган, были так узки, что никто из моих знакомых до середины семидесятых годов об этом не знал, а если что-то и знал, то боялся говорить громко – я не был близким приятелем Винокурова, как Андрей Сергеев, и мне он ничего не сказал, а главное, не попытался хоть как-то написать. Предупредить молодого об «играх» КГБ. И, возвращаясь к «Маяку», повторим, что юноши читавшие там стихи, певшие по вечерам, во всем СССР, что «бригантина подымает паруса», не понимали, каким зловещим призраком была эта бригантина и как вымочены в детской крови её паруса.
Впрочем, было еще одно совпадение с концом тридцатых годов (точнее, с никогда сути своей не менявшей советской властью). Шелепин, как мы увидим, ещё не будучи членом Политбюро, но являясь вторым человеком в руководстве страной после Хрущева, сам занимался делом «Маяка». Но и в ИФЛИ с Павлом Улитиным он жил в одной комнате и Михаил Айзенберг со слов Улитина рассказывал мне, что, когда Улитина арестованного уводили из общежития, именно Шелепин последний помахал ему рукой на прощанье. В «Хабаровском резиденте» у Улитина другие детали:
«Стометровку бежал вместе с Шуриком Шелепиным. Шурик Шелепин сказал Павлу Улитину:
– Тебе надо было более сильного партнера.
…
и Шурик Шелепин — не студент-историк,
хороший парень, мы с ним бежали
стометровку, а теперь он как
Берия, как Ежов
когда будешь всех нас сажать?».
Но, возможно, и в 30-е годы у Шелепина схожая с Павлом Коганом биография.
А дети продолжали писать стихи, иногда даже очень решительные, как и бывают в 17-18 лет, в особенности у тех, кто не понимает, где родился.
***
В те недолгие годы на «Маяке» читаем у Александра Орлова (Н. Нора):
В тот гудящий решительный час!
Мы ведь больше
По части идей,
Нет не нам поднимать пистолет,
А дубина она не для нас.
Но для самых торжественных дат
Создавала эпоха поэтов
А они создавали солдат!
А, главное, постоянно звучал на «Маяке» «Человеческий манифест» Юрия Галанскова:
Министрам, вождям и газетам – не верьте!
Вставайте, лежащие ниц!
Видите, шарики атомной смерти
у Мира в могилах глазниц.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
О, алая кровь бунтарства!
Идите и доломайте
гнилую тюрьму государства!
…
Где они -
те, кто нужны,
чтобы горло пушек зажать,
чтобы вырезать язвы войны
священным ножом мятежа?
…
Приветствуйте подлость и голод!
А я, поваленный наземь,
плюю в ваш железный город,
набитый деньгами и грязью.
…
Это – я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
сотканные из лжи!
Тем временем сотрудники Агаянца, перешедшие уже к следующему этапу исследовательских работ, начали создавать из «маяковцев» подпольные организации, обсуждать их уставы, необходимость в оружии, от анархо-синдикалистских до аморфно антисоветских, а главное — экспериментировать с реакцией молодых людей на призывы к терроризму. Поскольку центральной, поразительной по своему очарованию и таланту фигурой на «Маяке» был Юрий Галансков, а он был убежденным пацифистом, то специально для него провокаторами, имена которых легко просчитываются, оправданием терроризма стала, как это ни странно, защита мира. Хрущев в этой конструкции был авантюристом и агрессором и для недопущения новой войны должен был быть немедленно убит. Было выдумано не только оправдание, но и лестное историко-литературное название для такого террористического акта — «Гаврила Принцип наоборот». Сербский студент Принцип убил австро-венгрского эрцгерцога Франца Фердинанда и это стало поводом для начала Первой мировой войны, теперь убийство Хрущева должно было предупредить начало Третьей мировой. Одновременно, кроме тут же предложенного снайпера, нашлись у того же провокатора какие-то люди, которые требовали себе помощь в уже запланированном ограблении банка. В общем, КГБ веселилось на славу, Галанскова, правда, в эти провокации втянуть не удалось, поскольку он отвергал любые насильственные действия, зато, по-видимому, специально для него появились некие эмиссары НТС и от членства и сотрудничества с этой донельзя нашпигованной офицерами КГБ эмигрантской организации, чего эти мальчики, конечно, не понимали, он уже отказаться не смог.
Пока же за отсутствием Галанскова сотни молодых людей под большим секретом были осведомлены, что страшным террористом является фантастически наивный Владимир Осипов, и разнообразные психологи на Лубянке оценивали кто и как из юных и восторженных поэтов к этой идее относится. Апполон Шухт в разговоре со мной сказал, что по его мнению, все два года активной жизни «Маяка» он был репетиционной площадкой, экспериментально-социологической мастерской Комитета государственной безопасности в его работе с молодежью.
Поломал эту увлекательную творческую затею КГБ на «Маяке» Илья Бокштейн, тогда еще не писавший стихов, но под влиянием компании Юрия Мамлеева решивший, что ему, инвалиду, с туберкулезом позвоночника, неплохо бы посидеть несколько лет в лагере. Для этого он раз за разом сперва на «Маяке», а потом в частных квартирах, где собирались «маяковцы» часами объяснял, что «СССР — это концлагерь», «Советский Союз покорил Восточную Европу», «У нас не будет свободы, если не будет капитализма», «Уже расстреляны миллионы людей» и так далее. Бокштейна фотографировали в фас и в профиль, несколько раз предупреждали, почти просили, чтобы он прекратил свои выступления на площади и по домам — КГБ не хотел прекращать свои занятия. Но Бокштейн не унимался. Потом говорили, что песня Булата Окуджавы о «Бумажном солдате» была написана о нем (я с удовольствием ее цитирую):
Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.
Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.
Он был бы рад – в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.
Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему?
А потому,
что был солдат бумажный.
А он судьбу свою кляня
Не тихой жизни жаждал.
И все просил: огня, огня.
Забыв, что он бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.
И в конце концов его пришлось арестовать, обвинив в частности, в создании подпольной организации и терроризме, о которых он не имел никакого представления, его в эти дела не посвящали. Впрочем, эту замечательную песню, обычно, датируют 1959 годом, то есть до истории с Бакштейном, да и концовка ее мало соответствует его судьбе. Арест Бокштейна — инвалида с детства, не стал его гибелью. Он выжил в лагере и там начал писать стихи, стал первоклассным поэтом, освободившись уехал в Израиль, где издал несколько замечательных книг. Так или иначе помедлив еще месяц КГБ вынужден был прекратить свою исследовательскую деятельность на «Маяке» и арестовать по обвинению в терроризме Владимира Осипова, Эдуарда Кузнецова, с которыми и впрямь велись такие разговоры и для приличия Анатолия Иванова (Скуратова), который и был их инициатором, а так же «нашел» и будущего исполнителя теракта Виталия Ременцова, который потом признавался в сотрудничестве с КГБ.
Анатолий Иванов в этом не признавался, но все, что о нем известно не только вполне очевидно, но и позволяет сделать достаточно далеко ведущие выводы. В 1957 году Иванов был исключен с Истфака МГУ в связи с арестом «группы Красновевцева». Иванов к группе отношения не имел, но вел идеологически невыдержанные разговоры и не был членом ВЛКСМ (частично здесь использованы данные журнала «Панорама»).
Но 31 января 1959 года он был арестован в связи с арестом Игоря Авдеева (в Сталинске-Кузнецком ныне Новокузнецке), у которого была найдена статья Иванова о деле Краснопевцева (под псевдонимом Мануйлов), а у самого Иванова статья «Рабочая оппозиция и диктатура пролетариата» (о Бакунинском и Ленинском течениях в социализме, которую он не только написал, но и читал на собраниях кружка, в которой входил и Владимир Осипов). Игорь Авдеев получил 6 лет, а Иванов, признанный невменяемым, — принудлечение в ленинградской спецпсихбольнице, где ему лечением не досаждали, а в августе 1960 года уже выпустили.
Тут он и появился на «Маяке», стал инициатором убийства Хрущева и ограбления банка в Кишиневе и 6 октября 1961 года был опять арестован уже по этому обвинению вместе с Осиповым и Кузнецовым, те получили большие лагерные сроки, а Иванов опять попал на «лечение» в Казанскую спецпсихбольницу, откуда, естественно, вышел много раньше «подельников» (в 1964 году). Кузнецову при встрече нагло сказал: «А что ж вы разве не знали, что я сумасшедший?».
После чего как и Осипов сблизился со славянофилами, много печатался в журнале Осипова (ничему не научившемуся) «Вече», но Осипов был вновь посажен на 8 лет, Иванова это вовсе не коснулось. Но в августе 1981 года Иванов все же был арестован по делу о «Московском сборнике», который подготовил Леонид Бородин и где была статья Иванова (теперь он подписывался — Скуратов). Иванов вновь дал «исчерпывающие показания», Бородин получил 10 лет лагерей, а сам герой, теперь уже экспертизой признанный нормальным, 1 год и 5 лет ссылки — то есть ниже нижнего по этой статье, да и годом лагеря ему засчитали время следствия, то есть он сразу же уехал в ссылку.
Интересно у Иванова даже не то, что он откровенно посадил в лагеря, как минимум три группы своих «друзей», то есть откровенно и больше двадцати лет работал на КГБ и близко сотрудничал с такими одиозными персонажами, как художник Глазунов, основатель «Памяти» Дмитрий Васильев, но и языческими группами русских националистов, да и не только ими — он по роду службы не ограничивал себя одним каким-либо течением, а то, что его статьи и в первую очередь документ «Слово нации» (ответ на «Манифест демократического движения», написанный Сергеем Солдатовым) был широко известен, много раз перепечатывался и даже составил известность Скуратову, как бесспорному лидеру, выражающему распространенную в Советском Союзе точку зрения «русской фашистской партии».
В демократической среде председателя КГБ Юрия Андропова всегда обвиняли в потворстве и поддержке русского фашизма. Но я не думаю, что его личные симпатии и антипатии имели хоть какое-то значение. Скорее бы это относилось к его предшественникам на Лубянке и активу ЦК ВЛКСМ (вспомним упоминавшийся в главе о Сахарове «Кодекс комсомольской чести», совершенно такого же фашистского характера).
Но история Иванова-Скуратова, как и профашистские провокации КГБ в Западной Германии, характерный пример того, как для достижения своих целей, в том числе провокационных, дестабилизирующих общество и общественное сознание, КГБ использовало любые, на первый взгляд враждебные коммунистической идеологии, действия и «активные мероприятия». Особенно очевидно это стало в 1968 году в Париже, во время Майского восстания.
Впрочем, «Слово к нации», которое очень широко распространялось в списках и не раз перепечатывалось заграницей, не было подписано и есть, естественно, наши современники, которые считали, что оно было написано Виталием Ременцовым, то есть другим провокатором КГБ, которого нашел Иванов-Скуратов в Ленинградской психиатрической больнице, познакомил с Кузнецовым и Осиповым и представил, как «исполнителя» убийства Хрущева. Впрочем, может быть, они писали это «слово» вдвоем или никто из них не писал, а они получили его на Лубянке в готовом виде. Все это не имеет большого значения. Все же созданная им известность несопоставима со славой Павла Когана.
Характерно, что так же как в Малаховке, КГБ предпочел скрыть следы своей работы. Хотя в обвинительном заключении Осипов и Кузнецов еще обвинялись в подготовке террористического акта, в судебном заседании и приговоре речи о нем уже не было. Эдуард Кузнецов с некоторым недоумением вспоминает, что следователи «сами старались замять этот инцидент»:
– Я до сих пор не могу этого объяснить. Но факт, что они явно не хотели акцентировать этот момент — в каких-то своих интересах.
Кузнецов и Осипов, так же как Галансков не понимали, что были жертвами элементарной, хотя и не совсем обычной — с экспериментальными и подготовительными целями, провокации КГБ. К этому времени минимальная подготовительная работа к работе в Европе, в первую очередь к парижскому восстанию КГБ уже была проделана. Теперь надо было работать за рубежом и это было куда сложнее, чем малевать свастики на синагогах и провоцировать русских мальчиков на «Маяке».
В Париже для КГБ первоочередной сложной задачей было: используя антиамериканизм де Голля, его зависимость от Кремля ещё со времён Сталина и хорошо взлелеянную антиамериканскую среду — сперва в 20-30-е годы Коминтерном и НКВД, а потом коммунистами и «леваками» после войны — добиться выхода Франции из НАТО. Что и удалось к 1966 году.
В Москве Шелепину тоже стало не до того: сперва, как мы видим, с поручением ему Хрущевым системы всеобъемлющего контроля за всеми органами власти (Комитета партгосконтроля) в Советском Союзе, потом — было смещение Хрущева и борьба за власть в Кремле. Наконец, в 1963-66 году началась работа над гораздо более эффектным проектом – Синявскому начали готовить судьбу лидера демократического движения, как в СССР, так и в Европе, создавая попутно и само движение.
Юрий Галансков был почти забыт. Если году в 1960, после его женитьбы, ему с женой охотно дали большую комнату на Ленинском проспекте (вероятно, хорошо оборудованную подслушками), с интересом оценивали возможности использования создаваемого им «Всемирного союза сторонников всеобщего разоружения», а было еще и втайне написанное им письмо (возможно, кем-то подсказанное поэту, очарованному антисталинскими выступлениями на XXII съезде Хрущева и Шелепина, и представившему себе, что борьба за демократию — это общее дело политиков и поэтов). Поэты иногда верят политикам, не понимая, как правило, всей сложности их игр, но политики никогда не верят поэтам, но всегда пытаются использовать их в собственных целях. После ареста Осипова, Кузнецова и Иванова Галансков посылает поразительное письмо генералу КГБ В. Белоконеву (начальнику Московского управления КГБ).
Письмо с точки зрения КГБ было замечательное: во-первых, наивный Галансков, пытался «предупредить появление терроризма» и совершенно не понимал (хотя более трезво мыслящий Аполлон Шухт с самого начала в этом не сомневался), что все эти идеи о терроризме не только идут из КГБ, но к тому же в одном случае адресованы и приспособлены лично для него — Галанскова, во-вторых, в своем письме он предлагал именно то, что потом с успехом и будет использовать Андропов (в первую очередь с Якиром и Красиным, но так же с отцом Дмитрием Дудко, грузином Звиадом Гамсахурдией и многими другими), — убедить обвиняемых публично покаяться в своей вине и после этого — освободить их. Возможно, как раз по подсказке наивного юного поэта. Но тогда это блестящее предложение (в 1961 году) КГБ совершенно не собирался, да и не мог, использовать. В письме к генералу КГБ Галансков пишет:
«… Необходимо последовательно и совершенно новыми методами проводить работу по воздействию на общественную психологию. Я не говорю здесь ничего нового, потому что тоже в своем выступлении (на XXII съезде КПСС — С.Г.) сказал Шелепин».
Действительно, ничего нового в советах Галанскова для КГБ не было, в качестве консультанта или стукача наивный и восторженный поэт Лубянке не годился. В тоже время добиваться покаяния и тем самым запугивать всех вокруг и морально дискредитировать Осипова и Кузнецова не было никакой нужды, а публично в покаяниях и судах объявлять о юных террористах и очевидной своей провокации, что бесспорно привело бы к разоблачению всего ее механизма никто в КГБ не собирался. С другой стороны прослушка разговоров в комнате Галанскова ясно показывала, что при всем его убежденном миролюбии превратить поэта в послушного агента КГБ почти невозможно, да и вообще работа с Синявским была гораздо интереснее, а статья написанная Эрнстом Генри совместно с Андреем Сахаровым вызывала большие надежды. Но и к Галанскову интерес КГБ еще сохранялся. Тем более, что друзьями его были философы-неомарксисты, то есть возможные теоретики, организаторы, моральные авторитеты — продолжение игры для КГБ могло быть интересным. Исключенный с философского факультета Петр Гелазония и преподававший Галанскову историю в школе, но сохранивший контакты со своими блестящими учениками известный логик Георгий Щедровицкий – это была любопытная среда, тем более, что идея Парижского восстания, где все подобные люди были использованы, уже маячила в КГБ, но все труднее было «работать» с самим Галансковым. Оставалась слабая надежда запугать Галанскова угрозой смерти.
Здесь нужно дать очень серьезное пояснение. В понимании современных историков и публицистов, начиная с любопытной книги Александра Подрабинека «Карательная медицина» изданной за рубежом в 1979 году (и, конечно, распространявшейся в самиздате), сложилось стойкое убеждение, что, начиная с появившейся в 1961 году «Инструкции по неотложной госпитализации психически больных», расправа с инокомыслящими (а главным образом — с жалобщиками) с помощью психиатрических репрессий — насильственного, а в соответствии с этим «положением» без обязательного для этого суда и следствия — стала обычным, широко распространенным и самым зловещим (из-за неопределенности срока заключения, полной беспомощности положения жертвы, даже в сравнении с советским судом и лагерем) видом репрессий. Подрабинек полагая, а некоторые известные историки демократического движения считают так и поныне, что позднейшие нововведения уже при Андропове — записка в ЦК о необходимости расширения сети психиатрических больниц, практическое переиздание через десять хрущевского «положения», а так же дополнительное письмо о необходимости использовать психиатрические больницы в борьбе с инакомыслием ничего нового к уже существовавшему положению не прибавляют, а психиатрические репрессии начались (и это всеми было осознано) в 1961 году.
На самом деле такое понимание — результат позднейших репрессий. Впрочем, уже после первых арестов проведенных в начале 1967 года еще при Семичастном, 14 февраля 1967 года появилась и достаточно зловещая «Инструкция о порядке применения принудительного лечения и других мер медицинского характера в отношении психических больных, совершивших общественно опасные деяния». Если бы это было так, если бы заключение в психиатрическую больницу было и до 1967 года широко распространенным и наиболее жестоким видом политических репрессий, то к тому времени, когда было решено арестовать Галанскова, помещение его в психиатрическую больницу обычного или специального (до этого — тюремного типа) было гораздо проще (и глядя из сегоднящнего дня — страшнее), чем устройство пусть всего лишь формально открытого, но по сути своей — публичного суда. Галансков и до этого не раз попадал в психиатрические больницы. Один раз даже вполне добровольно — по рассказу Кагановского — с помощью тетки его знакомого Гелазония, которая была врачом — но лишь для того, чтобы не быть арестованным, что ему уже угрожало и никто не никто не выходил на демонстрацию в его защиту.
До 1967 года «психушки», «дурки», на молодежном жаргоне, того времени совершенно не были ни по существу, ни в их восприятии обществом хрущевских лет зловещим и репресивным государственным институтом. Напротив, интеллигентной молодежью крупных городов они воспринимались, как удобный механизм «закосить», то есть освободиться от службы в армии, иногда для решения каких-то личных или семейных проблем, иногда даже для приобретения большей свободы в высказываниях, в социальном поведении.
Очень характерной иллюстрацией этого являются перипетии Иосифа Бродского. Во-первых, у него с девятнадцати, кажется, лет была легко полученая для освобождения от армии подобная справка о «психиатрическом заболевании, не совместимости со службой в армии», которую потом, естественно, проигнорировала судебно-психиатрическая экспертиза, отправляя его в ссылку за тунеядство. Такие же справки были у поэта Сергея Чудакова, да и чуть ли не у большинства юных поэтов.
Во-вторых, и это очень характерно, еще когда произносятся властями первые угрозы в его адрес 27 декабря 1963 года в квартире у Ардовых на Большой Ордынке собирают так называемый «военный совет» с участием Анны Андреевны Ахматовой, где решают, что Бродскому хорошо бы недолго полежать в психушке, получить свидетельство о «психической неустойчивости» и, действительно, через знакомых помещают поэта в больницу им. Кащенко, откуда он через три дня сбегает. Но из всего этого видно, что психиатрическая больница не воспринималась в те годы ни как источник опасности для жизни и здоровья, ни даже как репрессия более тяжелая, чем ссылка (ни что другое Бродскому за тунеядство не грозило). Многоопытные, все пережившие старики, искренне любившие Бродского в 1963 году опасности от попадания в психиатрическую паутину тоже не видели, она попросту появилась как массовая угроза обществу, скажем, лет через пять — после отставки Хрущева и прихода в КГБ Андропова. Скажем, в 1980 году, когда мне, донельзя измученному голодовками и карцерами, сперва почти не способному ходить, только что освобожденному из Верхнеуральской тюрьмы очень крупный психиатр, отец моих приятелей, предложил устроить меня ненадолго отдохнуть в санаторном отделении той же больницы имени Кащенко, я, подумав и поблагодарив — отказался. Время было совсем другое и даже очень влиятельный врач далеко не все мог гарантировать.
Но вот году в 1964-м не могу забыть тогда широко известное событие в Доме литераторов очень популярный тогда автор сказок и детских стихов Геннадий Снегирев, слегка подвыпив в кафе и увидев важно шагающего в ресторан, тогда почти знаменитого художника Збарского (недавно вышел «Золотой осел» Апулея с его иллюстрациями) бросился ему наперерез с криком:
– Ну, как поживает наша копчужка?
Все знали, что Збарский — племяник директора «Института Мавзолея Владимира ильича Ленина» (был тогда такой), то есть Снегирев публично и громко — в кафе всегда было много народу — назвал святые останки вождя – «копчужкой». Но у Снегирева была справка из психдиспансера и он чувствовал себя вольготно. И все понимали, что «со справкой» ему ничего не будет и действительно не было — даже печатать не перестали.
Все это приходиться объяснять и рассказывать, не только чтобы объяснить почему Галанскова отправили в лагерь, а не в психушку, но и потому, что иначе нельзя понять как чудовищно изменилось положение при Андропове. Но об этом в следующей главе.
Пока лишь еще одно замечание. Участники демонстрации 5 декабря 1965 года считали, что все окончилось мирно и без особых репрессий. Действительно, никто не был арестован. Но Юлия Вишневская на 1,5 месяца была помещена в больницу за подготовку демонстрации, Олег Воробьев попал даже в Институт им. Сербского и был признан вменяемым и выпущен, Владимир Буковский уже во второй раз после пятого декабря попал в психиатрическую больницу (Люберецкую на 8 месяцев), но до этого он почти два года провел в Ленинградской СПБ. Но никем это особыми репрессиями еще не воспринималось, никто в их защиту демонстраций не проводил. Конечно, совсем иначе воспринималось тогда же помещение на много лет сперва в Ленинградскую, потом в Черняховскую СПБ генерала Петра Григоренко. Отношение в большинстве случаях к недолгой госпитализации в «дурках» молодых людей в те годы было совсем иным, воспринималась она как форма «воспитательной работы», а не репрессий, да и ни к каким тяжелым последствиям ни для здоровья, ни для социального статуса они не приводили. Поэтому решив расправиться с Галансковым с ним о психиатрических больницах и речи не заводили.
В общем суде с Гинзбургом, Лашковой и Добровольским Галанскову дали больше всех, хотя, кроме провокаций КГБ со связями с НТС, его не в чем было обвинять — семь лет лагерей. Даже Александр Гинзбург, уже до этого получивший два года за издание «Синтаксиса», которого Шелепин еще будучи председателем КГБ в «записке о настроениях советской интеллигенции» характеризует, как «нигде не работающего, занимающегося подделкой документов…, собирателя произведений художников-абстракционистов и вынашивающего намерение создать молодежный клуб по образцу ревизионистских клубов Варшавы 1956 года», да к тому же реально (в отличие от Галанскова, не имевшего к этому отношения) собравшему «Белую книгу по делу Синявского и Даниэля» — в чем, правда, КГБ и был заинтересован, но, конечно, не мог этого признать, получил срок меньше, чем никогда не сидевший наивный и миролюбивый поэт. Собственно, и арестовали Галанскова в январе 1967 года первым — сразу же, как только стало известно, что он переправил на Запад совершенно невинный литературный сборник «Феникс». Вслед за ним был арестован Буковский организовавший на Пушкинской площади небольшой митинг в защиту Галанскова. А на следующий день был арестован и Гинзбург. На этом игры КГБ с молодыми людьми (дающими и не дающими им советы), как и реклама «Дела Синявского и Даниэля», в СССР были прекращены.
Хроническая язва желудка в лагере с постоянными штрафными изоляторами (ШИЗО) и помещениями камерного типа (ПКТ), где питание было ниже по калорийности и хуже по качеству, чем в Освенциме, не могла не обостряться, но Галансков, явно уже погибая, не сдавался. Примерно за полгода до смерти Галанскова КГБ все же сделал последнюю попытку. По свидетельству его близкого друга — Геннадия Кагановского, который и до этого писал ему в письмах: «Ты нам нужен живой», — и уговаривал написать просьбу об освобождении по состоянию здоровья, некий полковник КГБ предложил ему дать свидание в лагере с Галансковым – «мы же не хотим, чтобы он там умер». Но все это связывалось с каким-то сложными планами КГБ, Кагановский играть в эти игры втайне от Галанскова не хотел, в КГБ настаивали на сохранении секрета об их интересе и свидание не состоялось9. КГБ перестала интересовать судьба юного поэта и он умер на операционном столе лагерной больницы.
В это время в Париже в пределах пристального внимания КГБ-СССР находится другой, тоже нелегкий для работы с ним, меняющий свои политические предпочтения, поэт — знаменитый кинорежиссер, который проживет очень долгую жизнь, снимет десятки разного качества фильмов, хотя казалось бы отличия между ними должны привести к прямо противоположным результатам.
Жан-Люк Годар, меняясь, все же постоянно воспевает – «Поэта в честь которого назван пистолет — Роберта Браунинга».
Галансков, тоже меняясь, продолжает совершенствовать свой проект «Всемирного союза сторонников всеобщего разоружения».
Но о Годаре — в главе о «майском восстании», а о юношах на «Маяке» еще несколько слов. И для Гинзбурга и для Галанскова, было еще две (кроме Павла Когана) знаковые фигуры в современной русской литературе. Одной стал с 1964 года правда не поэт, Андрей Синявский уже упоминавшийся нами, но ставший для «маяковцев», а потом юных «смотовцев» символом, к несчастью не успешной провокаторской работы КГБ (дальше о нем отдельная глава), а свободной русской литературы, преследуемой и загоняемой в лагеря. Гинзбург и Лашкова вскоре сами туда попали за переправку заграницу «Белой книги о деле Синявского и Даниэля», Галансков в свой сборник «Феникс-66» , за который был осужден и умер с гордостью включил двусмысленную статью Синявского «О социалистическом реализме». Но с Абрамом Терцем все ясно.
Гораздо сложнее другая знаковая фигура того времени — поэт Борис Слуцкий.
Его стихотворения «Бог»:
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
Того – иного, другого,
По имени Иегова…
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко,- мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.
Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом. (вариант – И даже стояли с ним рядом)
Сотни тысяч молодых и немолодых людей перепечатывали на пишущих машинках с риском для жизни переправляли заграницу это стихотворение, и оно, анонимно, перепечатывалось вместе с несколькими другими в сборнике «Потаенная русская поэзия» в издательстве «Посев». И уж во всяком случае его все знали наизусть, в том более смелом, времен Хрущева, варианте – «стоявшего с ним рядом», чем потом опубликованный текст последней строки. У меня, кажется, этот вариант был от самого Бориса Абрамовича, который к тому же предложил мне (что и осуществилось) сделать первую за четверть века публикацию стихов Андрея Белого в «Дне поэзии» 1964 года, который он в том году составлял и редактировал (предыдущим был сборничек 1940 года в «Малой серии» Библиотеки поэта, составленный Цезарем Вольпе — первым мужем Лидии Чуковской).
Но та уже процитированная жесткая реплика Евгения Винокурова, записанная Андреем Сергеевым о Павле Когане на самом деле начинается не с него:
Слуцкий и Балтер — карьеристы-неудачники, а прошлое — только повороши. Вообще, ифлийцы — Слуцкий, Наровчатов, Коган, Шелепин — это авгуры, маленькие великие инквизиторы. Я себе так говорю: Троцкий, Ганецкий, Урицкий, Слуцкий».
Ну, насчет авгуров это, как у Улитина — Коган и Азеф и Павлик Морозов, — вероятно понятная избыточность отвращения, но вот «прошлое — только повороши», «маленький великий инквизитор» – это к Борису Абрамовичу очень приложимо. Биография его до сих пор, несмотря на сборник воспоминаний о нем, его собственные осторожные воспоминания до сих пор вся в лакунах и темных пятнах, один его двоюродный брат — директор «Моссада» чего стоит. Имел к нему отношение Борис Абрамович или не имел, а если имел — какое?
Ясно одно, называя себя политработником во время войны (в биографии Слуцкого в «Википедии» осторожно сказано «Несмотря на то, что был политработником, постоянно лично ходил в разведпоиски». Все же и в 60-е годы было известно, что Слуцкий, закончив перед войной не только и ФЛИ, но и юридический институт, служил не политработником, а в кровавом СМЕРШ’е (следователем? Прокурором?).
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас все в свете нет.
Пишет сам Борис Абрамович. Собственно говоря из его стихотворения «Кому мене жить, кому боле…» вполне очевидно:
Кому мене жить, кому боле,
очень просто решается в поле.
Тяжелее решать за столом:
где он, нравственный эталон?
Вот он, чести аршин портновский,
ни в параграфе и ни в сноске
истины не пытаться найти.
Повернуться и сразу уйти.
Не стараться, не суетиться,
не пытаться на первых порах.
Просто: сразу отворотиться
и уйти, отрясая прах.
Ушел ли он «сразу» «отрясая прах» или:
Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома,
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, что не бывать другому.
Написано это, конечно, только о его выступлении в Союзе Писателей с осуждением обожаемого им Бориса Пастернака, когда по его рассказу, Слуцкого вызвали в ЦК и сказали «если не выступишь — сдавай партийный билет». «А куда я без партии» – говорил Слуцкий, но простить себе этого позора так и не смог.
Но только ли об этой «грязи» стихотворение Слуцкого? Борис Абрамович — наиболее известный, наиболее беспощадный к себе, своему прошому человек, постоянно прямо и косвенно просивший прощения за то, что сделал в жизни.
Лучше лихо помяни
То, что мы забыли,
Помяни и извини
Уж какие были…
И все же пишу я об этом очень важном и подлинно трагическом и для «маяковцев» и для меня самого человеке и поэте главным образом потому, что его знаменитая, не случайно посвященная все знающему, но не умевшему каяться (вспомним реплику Василия Гроссмана о его воспоминаниях «Люди, годы, жизнь») Илье Эренбургу баллада «Лошади в океане» разными людьми понималась по разному. Но некоторыми, как реквием, реквием написанный человеком, который понимал мир, в котором живет и видел множество людей, детей, «маяковцев», которые этой войны не понимали и гибли, гибли один за другим. Кого-то из молодых поэтов Слуцкий совершенно неоправданно называл рыжим – я не могу вспомнить кого. Все же несколько выжили и даже стали известны, почти все так или иначе искалечены, Слуцкий отпел всех нас (только некоторых из нас слишком рано, как Окуджава — Бокштейна), многие из «рыжих, не увидевших земли» погибли. Но как не ценить по тем временам и Бориса Абрамовича Слуцкого – хотя бы его понимания, его попытку раскаяния, сочувствие, жалость, у всех других ничего подобного не было. Впрочем, открыто террористический сталинский характер КГБ возродил чуть позже Андропов.
Лошади умеют плавать,
Но – не хорошо. Недалеко.
“Глория” – по-русски – значит “Слава”,-
Это вам запомнится легко.
Шёл корабль, своим названьем гордый,
Океан стараясь превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лощадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось – плавать просто,
Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края,
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и всё. А всё-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.
1 За большинство материалов о Павле Когане я благодарен Ивану Ахметьеву.
2 Из просьбы Кореца о реабилитации.
3 Дело Кореца
4 Г. Горелик «Советская жизнь Льва Ландау»
5 Показания Кореца на суде
6 Г. Горелик «Советская жизнь Льва Ландау»
7 «Записка Комитета госбезопасности и Прокуратуры СССР от 27 января 1967 г. №162с». Архив Буковского.
8 Павел Улитин. Хабаровский резидент
9 Я благодарю Геннадия Кагановского за все материалы и рассказы о судьбе Юрия Галанскова.
Опубликовано на сайте: 22 марта 2016, 15:00
Спасибо Большое! Познавательно.
25 марта 2016, 18:16
Сергей Иванович, у Вас написано: “Среди них были такие серьёзные поэты, как Сергей Чудаков, долгие годы принудительно помещаемый в советские психиатрические тюрьмы, в дальнейшем соавтор ряда статей с Андреем Тарковским, значительная часть стихов которого была спасена Гинзбургом публикацией в сборнике «Синтаксис»”.
Наверное, речь идет о поэте Арсении Тарковском. Андрей Тарковский – режиссер.
25 марта 2016, 21:02
Борис Липин
Здесь и впрямь есть неточность – статьи Сережа писал до того, как его сгноили в психушке (одну из них “Глаз Циклопа” о советском телевидении принес и мне, когда я работал в “Юности”), но соавторство с Андреем Тарковским совсем не описка, они были хорошо знакомы и Андрей даже хотел снимать его в “Рублеве” и что-то они, действительно, написали вместе. Посмотрите недавно вышедший большой том произведений Чудакова. С Арсением Александровичем , я думаю, Сережа не был знаком – это было другое поколение, с которым у него было мало связей. Да и вообще, история литературы, уже сложившиеся поэты (кроме Пастернака и Ахматовой) его мало интересовали.
26 марта 2016, 17:46
А что можно сказать об Окуджаве, его роли, отношениям с ГБ?
31 июля 2016, 19:40
Борис Иванов начал издавать литературный самиздатский журнал «Часы» (с 1976), а ж. «Эхо» – тамиздатский, Париж.
18 января 2018, 23:43
УВы
Спасибо, исправил…
24 января 2018, 12:36